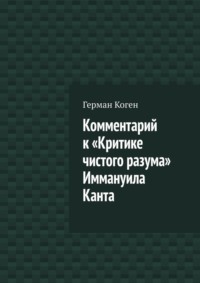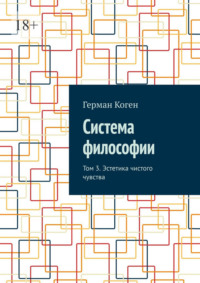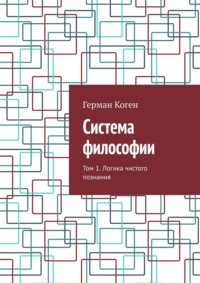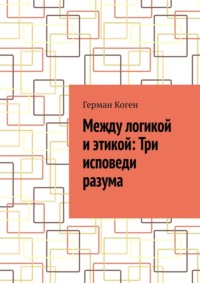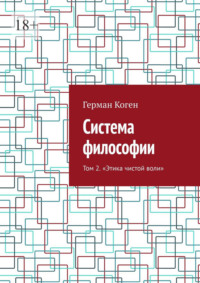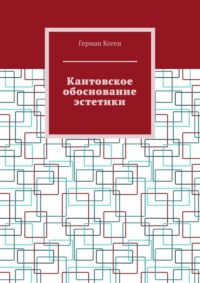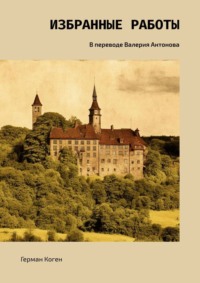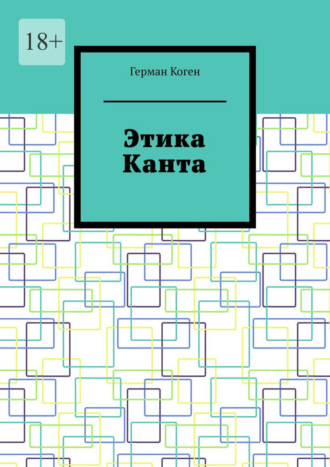
Полная версия
Этика Канта
Следует отметить, что даже антитезис, хотя и отстаивает преимущества эмпиризма, все же принимает мир в абсолютно реалистическом смысле. Он еще не знает различия между категорией и идеей. Свобода «таким образом» даже «не встречается» ни в каком опыте. Этот взгляд антиномии в сравнении с систематическим выражением трансцендентального идеализма становится еще яснее из «Примечания». В нем тезис оправдывается тем, что он утверждает необходимость первого начала из свободы лишь постольку, поскольку это «требуется для постижимости происхождения мира, тогда как все последующие состояния можно рассматривать как следующие лишь по законам природы» [4]. Однако раз уж таким образом доказана (хотя и не постигнута) способность совершенно самостоятельно начинать ряд во времени, то нам теперь также позволено «посреди мирового течения начинать самостоятельно различные ряды причинности и приписывать субстанциям способность действовать из свободы». Но этот утверждаемый первичный начало следует понимать не во временном, а лишь в причинном отношении. Таким образом, мир мыслится не как явление – ибо для него причинность связана с временным условием – и не как вещь в себе, в противоположность φαινόμενον; ибо на последнее этот спонтанный в причинном отношении начало может быть применен лишь при условии сохранения обусловленности явлений.
Между тем на этом аргументе основывается возможность разрешить антиномическую видимость в идее свободы. Антитезис схватывает это в своем смысле: «Если вы не допускаете математически первого во времени в мире, то вам нет нужды искать и динамически первого в причинном отношении». «Поскольку субстанции в мире существовали всегда…, то нет никакой трудности предположить также, что и смена их состояний, то есть ряд их изменений, существовал всегда, и, следовательно, не следует искать никакого первого начала – ни математического, ни динамического». Тот, кто отвергает эту «загадку природы», должен потерять голову перед одной лишь возможностью изменения, ибо оно столь же непостижимо. В трансцендентальной же идее загадка природы разрешается. В остальном антитезис апеллирует к единству и закономерности опыта, которые делаются «запутанными и несвязными» этой мыслью.
Решение антиномии ясно намечено. В применении к явлениям опыта причинность должна оставаться неограниченной. Свобода может быть отнесена лишь к вещи в себе. О вещи в себе же мы не можем знать ничего, кроме того, что она есть пограничное понятие, точка зрения, максимум. И что, если мы будем искать свободу ноумена лишь в этом смысле? И в этом смысле сможем ее доказать?
Возможность соединения свободы и природной необходимости основывается, как уже сказано, на том, что третья космологическая идея касается динамически безусловного, содержит синтез разнородного. Каузальность предполагает нечто разнородное. Это было замечательное наблюдение уже у Локка, через которое размышления Юма привели критику в движение. В, действие, отлично от А, причины. И потому остается непостижимым, как это воздействие на различное происходит. Мы объясняем его лишь в отношении к «чему-то совершенно случайному, а именно возможному опыту». Поэтому этот конфликт может быть «сравнен», тогда как «спор» относительно математических идей должен был быть «отвергнут».
Если этот единственно возможный выход твердо держать в виду, то не может быть сомнения в том, что внутри ряда эмпирических условий все без исключения подчинено природной необходимости. Синтетический принцип второй аналогии опыта для самого опыта не подвергается сомнению. С каким правом, на каком основании можно тогда принять свободу у ноумена? Здесь должен проявить себя регулятивный характер идеи свободы. Но сейчас речь не об этом.
Психологическая свобода также пока остается вне рассмотрения. Здесь речь идет о трансцендентальной идее, которая, как таковая, не дана ни в каком опыте и не апеллирует ни к какому опыту; которая, скорее, по общему признанию, возникает потому, что разум не может произвести в ряду явлений тотальность, необходимую для каузального регресса: «так создает себе разум идею спонтанности» [5]. Для самих же явлений причинность остается «непреложным законом». Мы подтвердим это в свое время кантовскими положениями. Но с самого начала следует удерживать эту мысль, чтобы не впасть в заблуждение относительно примирения, которое здесь, будучи изложено «лишь в общем и совершенно абстрактно, должно казаться крайне тонким и темным» [6].
Чтобы сделать парадоксальный выход убедительным для тех, кто в этом вопросе, исходя из эмпирических интересов, полагает, что не обязан соблюдать понятие границы, следует вспомнить, как в паралогизмах обсуждается вопрос о взаимодействии души и материи. Как может материальное движение вызывать представления в нашем уме? Какое сравнение возможно между теми материальными и этими внутренними процессами? «Но мы должны помнить, что тела – не объекты сами по себе, которые нам даны, а лишь явления, кто знает какого неизвестного объекта; что движение – не действие этой неизвестной причины, а лишь явление ее влияния на наши чувства» [8]. То, что эмпирист охотно слышит в этом пограничном случае, он должен принять и в другом.
Эмпирический характер, закон, по которому осуществляется каузальность чувственного существа, есть звено природного порядка и зависит от законов природы. Интеллигибельный же характер свободен от условий явления. К этим условиям относится время. Поскольку интеллигибельный характер изъят из времени, «в нем не может ни возникнуть, ни исчезнуть никакое действие». Однако свои действия он может начинать в мире самостоятельно, «без того чтобы действие начиналось в нем самом» [9]. В нем самом, следовательно, действие не может возникнуть, ибо он освобожден от времени. В мире чувственном же действия не могут начинаться сами собой, ибо там господствует природный закон причинности. Остается лишь, чтобы интеллигибельный характер, то есть закон, по которому вещь в себе является причиной, в чувственном мире начинал свои проявляющиеся в нем действия самостоятельно. Понять, как возможен этот вид причинности, не труднее, чем понять, как возможна причинность вообще.
Всё зависит от различия между началом действия и началом поступка. «Среди причин в явлении, конечно, не может быть ничего, что могло бы абсолютно и самопроизвольно начать ряд… Но разве необходимо, чтобы, если действия суть явления, причинность их причины… была исключительно эмпирической? И не возможно ли скорее, чтобы, хотя для каждого действия в явлении требуется связь… по законам причинности, тем не менее сама эта эмпирическая причинность, нисколько не нарушая своей связи с природными причинами, могла бы быть действием неэмпирической, а интеллигибельной причинности? То есть, в отношении явлений, изначальным действием причины». Таким образом, рассудку «нисколько не вредит, даже если предположить, что всё это – чистая выдумка… когда хотят подняться от эмпирического объекта к трансцендентальному» [10]. Если хотят. Но почему бы кто-то захотел? Об этом сейчас речи ещё нет.
Если же, как здесь единственно и требуется выяснить, интеллигибельный характер, то есть закон причинности, действительный для ноуменов, может быть допущен без противоречия, то поступок, поскольку он приписывается этому закону, «совершается вовсе не по эмпирическим законам, то есть так, чтобы условия чистой причины предшествовали, а лишь так, чтобы её действия в явлении внутреннего чувства предшествовали» [11]. Интеллигибельный характер не имеет ничего общего с временной формой. Предшествование здесь не временное. «Таким образом, мы можем сказать: если разум может обладать причинностью в отношении явлений, то он есть способность, через которую впервые начинается чувственное условие эмпирического ряда действий». Следовательно, в этом порядке вещей полностью исключены «до» и «после». Изначальное начало – не временное, оно лежит по ту сторону, в безусловном, где причина скорее есть действие. Можно лишь спросить: зачем эта выдумка? Это соединение разнородных моментов? В этом вопросе уже заложен зародыш ответа. Именно в этом и состоит неотвратимая проблема – привести к согласию совершенно разнородные условия: условия причинности и условия свободы. Это проблема этики, которая должна быть установлена без нарушения учения об опыте. Поэтому две разновидности условий, два вида мира, два вида существ, два вида действий – вот содержание этой проблемы.
Если, таким образом, непротиворечивая совместимость свободы и необходимости в проблеме прояснена, то следует обратить внимание: «Нужно хорошо заметить, что мы этим вовсе не хотели доказать действительность свободы… Более того, мы даже не пытались доказать возможность свободы. Свобода здесь рассматривается лишь как трансцендентальная идея. То, что природа не противоречит причинности из свободы, – это единственное, что мы могли осуществить и что нас исключительно и единственно интересовало» [12].
Действительно, выгода от этого установленного согласования свободы и природной необходимости сначала лишь отрицательная: и свобода имеет лишь отрицательное значение. Если ноумену приписывается свобода, то после разрешения антиномии это означает только: независимость от закона причинности; но отнюдь не произвольное распоряжение вопреки закону причинности. Это означает лишь противоположность понятий ноумена и причинности, которая противоположность дана через различение между явлением и вещью самой по себе.
Тем самым задана и ориентация для правильного понимания этой противоположности и этого согласования. Подобно тому, как вещь сама по себе имеет лишь значение постулирования познавательных ценностей поверх реальности, обусловленной законом, чтобы прикрыть бездну интеллигибельной случайности безусловным бытием, – так и свободный ноумен не может иметь иного смысла, кроме как преодоление зияющей бездны той интеллигибельной случайности в бесконечной природной обусловленности человеческих поступков. Положительное значение свободы ноумена может заключаться исключительно в идее, как истолковании того постулата реальности, который выражает вещь сама по себе.
Каким образом идея как максима подтверждает себя трансцендентально – об этом здесь не спрашивается. Но уже на этом этапе должно быть понятно, что может означать свобода, как свобода ноумена. Она не может приписывать какую-либо, сколь угодно расширенную, чувственную способность не феноменальной, а интеллигибельной сущности. Ибо понятие ноумена ни в коем случае не означает такого однородного расширения чувственности. Следовательно, вовсе не может идти речь о том, чтобы, например, предоставить homo noumenon преимущество произвола, которого homo phaenomenon не имеет, но хотел бы иметь; а лишь о том, что свободный ноумен должен соответствовать исключительно глубокой трансцендентальной потребности, которую раскрывает обусловленное причинностью феноменальное. Свобода, как принадлежащая исключительно ноумену, может, таким образом, лишь раскрывать всеобщее значение ноумена.
Понимание этого сложного вопроса, возможно, облегчится следующей переменой в выражении этого примирения. Не следует говорить: ноумену остаётся допустимой свобода; а скорее: свобода есть одно из истолкований того трансцендентального требования, которое вообще апеллирует к ноумену и утверждает его. Поскольку различение уже проведено, понятно сказать, что провозглашённому ноумену может быть приписан и трансцендентальный остаток, который ощутим при каузальном регрессе человеческих действий. Но в сущности, каждый такой остаток сам по себе есть повод для постулирования соответствующего ему ноумена. Те четыре тезиса, которые на основе мысли о причинности заключают к безусловному, можно, конечно, объединить как требования космологического ноумена; но точнее было бы сказать: существует ноумен пространственно-временной границы, как и границы деления, и точно так же ноумен свободы. Таким образом, спасается не свобода ноумена, а постулируется ноумен свободы. Той бездне, которую прикрывает свобода, должен соответствовать ноумен, представляющий требуемый интеллигибельный закон, тот новый собственный характер причинности, тот неизвестный способ изначально начинать не поступки, но чувственно проявляющиеся действия.
Сразу видно, что благодаря такой изменённой формулировке заглушается возражение: каким правом можно утверждать о вещи самой по себе свободу, если о ней известно лишь что она есть, а не что она такое. Не в своей определённости как свободный познаётся ноумен, а: что свобода есть, требует космологическая тотальность; то есть что есть ноумен свободы.
Далее, уже здесь, даже не распознавая регулятивной максимы, которой служит идея, можно понять: что ноуменальная свобода не может означать чувственный произвол, не игру прихоти, сводящую на нет всякую рациональную обработку и пересекающую каузальный ход опыта: такому недомыслию критический ноумен не соответствует.
Здесь нельзя обойти вниманием мнение, что свобода интеллигибельного характера, закона образа мыслей, означает спонтанное, совершённое до и вне всякой временности, собственное определение выбора homo noumenon. При всей кажущейся глубине этой мысли она лишь отодвигает вопрос способом, не соответствующим строгости критического различия. Импутабельность, конечно, мыслима; но допустима ли она ещё и критически?
Этот простор импутабельной способности выбора и определения действительно не подходит для того, чтобы охарактеризовать свободный ноумен как нечто не более реальное, чем идея; напротив, ноумен, наделённый свободой, понятой таким образом, предстаёт в символически-прозрачной эмпирической ясности. Подобно тому, как чувственное существо, по-видимому, само выбирает свои поступки, как хорошие, так и дурные, но в действительности детерминировано в этом мире, – так, согласно такому пониманию, вещь сама по себе, скрытая за облаками эмпирического мира, может производить в собственной самостоятельности действия, появляющиеся на сцене явлений, независимо от того, кажутся ли они дурными или хорошими в свете наших категорий.
Видно, что свобода выбора ноумена оставляет, кроме того, две возможности. Либо вещи самой по себе безразлична разница моральных понятий; действие исходит от неё, но моральное осуждение происходит в свете чувственного дня. Либо вещь сама по себе прямо имеет силу выбирать и осуществлять также и зло как таковое.
В обоих случаях действие, конечно, возводится к определённой причине; остаётся открытым, сохранялась бы ли импутабельность при первой возможности. Но разве это значит решить проблему свободы – взвалить первородный грех на Адама из трансцендентального ребра!
Такое решение не может быть адекватным трансцендентальной проблеме. Мы остаёмся неудовлетворёнными интеллигибельной случайностью, которую самое развитое, проницательное и терпеливое каузальное обусловливание всё же должно оставлять: может ли нас тогда удовлетворить плоское примирение – благородное отдать ноумену, обыденное – явлению! Восхищаться этим примирением как глубиной мысли – пусть останется преимуществом сверхчувственно-чувственного мистицизма вроде шопенгауэровского.
Именно это должно было научить нас избегать различения между действием и следствием; если бы ноумен мог выбрать зло, то он, собственно, и начинал бы действие. Но в нем, ноумене, лишенном временной формы, ничто не может начаться, так же как и в мире чувств недопустимо спонтанное начало действия. Следовательно, ноумен, который один только может начинать абсолютно, может начинать лишь в мире чувств; и поскольку в этом мире его действия не могут начинаться, это может относиться только к его следствиям. Однако как следует понимать эту темную связь следствий, которые сами по себе полностью обусловлены, со спонтанностью, которую нельзя мыслить как действующую, – это проясняет лишь регулятивное значение, призванное раскрыть смысл всего этого различения и его мнимой ценности. Здесь вновь следует подчеркнуть: интеллигибельный характер – не отражение эмпирического, но отличен от него, как идея от категории.
Ноумен свободы может лишь указывать на то, что все действия, все судьбы явления человека, как и все события этого мира, становятся истинными предметами опыта лишь благодаря тому, что закон причинности учит их познавать. Но где же предел этих условий? Ищите же ограничивающее безусловное, чтобы избежать пропасти, зияющей под всей статистической причинностью человеческих судеб! Это безусловное и есть свобода.
Вокруг этого пункта и вращается весь древний вопрос: является ли такое безусловное, в котором причинное обусловливание находит свой предел, лишь границей (Schranke) или же оно есть подлинный предел (Grenze)? Содержит ли оно отношение к чему-то такому, что может и должно считаться пограничным понятием, законным истолкованием трансцендентального требования вещи в себе?
На это терминологически ответило разрешение антиномии. Ноумен как таковой свободен. Ясность, полное успокоение мысли относительно этого пункта может принести лишь рассмотрение и изложение регулятивного применения идеи свободы; но сама точка вопроса уже здесь должна быть определена и четко обозначена.
Или, может быть, следует полагать, что не должно стремиться к иному удовлетворению причинного обусловливания, кроме того, какое ставит своей задачей моральная статистика?
Тот, кто, конечно, понимает это слово в значении genitivus objectivus, для того мораль действительно растворяется в статистике. Но именно против такого понимания критическое обоснование этики должно довести до сознания мысль о пропасти той интеллигибельной случайности. И хотя мы в этом разделе воздерживаемся от позитивного освещения этой трансцендентальной максимы, читатель уже должен был прийти к мысли: что без ноумена свободы этика вообще была бы пустым звуком.
Если без остатка сводится счет человеческого существования, если причинное обусловливание человеческого здесь и там, правда, имеет временный предел, но не имеет предметной границы; если та свобода – лишь соломинка, по образу Юма, которой воображают возможным сдержать поток природных условий; если сохранение тех моральных обломков обязано лишь схоластическому благочестию; если мысль о человеке в действительности означает лишь феноменон и ничего более; если рассмотрение человеческой участи ни с какой стороны, ни в каком отношении не открывает вида на регулятивное значение ноумена, трансцендентальной идеи, – тогда, да тогда этика уничтожена и упразднена. Пусть история, пусть право смотрят, как они уживаются со статистикой.
Если же, напротив, этика должна быть возможна; если, согласно трансцендентальному методу, этика должна конституироваться из своих условий, то следует исследовать регулятивное применение этой, ставшей тогда трансцендентальной, идеи. Однако, чтобы оставить этот вопрос открытым, необходимо было рассеять антиномическую видимость; доказать, что свобода есть ноуменальная, что и она, со своей стороны, требует ноумена. После того, однако, как была показана – если выразиться кратко – совместимость категории и идеи также и в этом случае, теперь следует обратить внимание на пользу, которой должно послужить это возвышенное оправдание и без которой проблематическое понятие не обрело бы ни малейшей меры позитивного значения.
Итак, к этике, в связях которой идея свободы должна приобрести трансцендентальное значение, мы подошли через разрешение того антиномического противоречия. Изложение свободы как регулятивной максимы составит, согласно намеченному, обоснование этики; обеспечит возможность этического познания.
Прежде чем, однако, перейти к изложению содержания этики, кажется необходимым предварительно рассмотреть, какого рода может быть это познание этического. Мы должны будем принять во внимание различие, существующее между познанием природы и этическим мышлением; ибо первое основано на синтетических принципах, второе – на идее. Соответственно, мы сможем спросить: существует ли вообще синтетическое, имеющее силу для предметов опыта познание в области того знания, которое возникает из требования ограничивающих опыт идей? Может ли этика, поскольку она должна основываться на идее свободы, которая есть ноуменальная, называться синтетическим познанием? Если же она не смеет претендовать на эту познавательную ценность, не была ли бы она тогда, пожалуй, пустой игрой мыслей с аналитическими остротами, которые никогда не смогли бы обрести отношение к реальным людям?
Эти вопросы разрешат рассуждения, составляющие вторую часть нашего исследования. Однако прежде чем перейти к ней, краткое рассмотрение пусть подведет итог нашим размышлениям о возможности этики перед судом учения об опыте.
В противоположность догматическому, материальному реализму мы сделали достоверность реальности зависимой от условий, которые делают возможным данный научный опыт. Но эти условия, принципы, устанавливающие единство опыта, при последовательном применении самих себя выливаются в идеи, в принципы, стремящиеся сделать это единство систематическим. Если идеи объективируются, они трансцендентны; если же они мыслятся трансцендентально, как регулятивные максимы, они сохраняют свою полную значимость. То же относится и к теологической идее, и к психологической. И относительно первой мы видели, что ее содержанию, мысли о цели, сохраняется плодотворность даже за пределами области природного опыта. На эту новую область, наконец, распространяется и регулятивное применение третьей среди космологических идей.
Так подтверждается на каждой отдельной идее то, что показало родовое понятие их, вещь в себе: необходимость ограничения опыта; подтверждение фундаментальной мысли о случайности опыта; указание на пропасть интеллигибельной случайности. И в ноуменальной идее свободы эта мысль выступает со всей силой и всей систематической остротой.
Таким образом, учению об опыте не только оставлено открытым место для рассмотрения иного рода реальности человеческих дел, этической достоверности человеческой участи; но ее собственные основные понятия, столпы реальности, обусловливающей опыт, возникающие из ее собственного метода, заостряются до идей, которые претендуют на то, чтобы гарантировать реальность иного рода.
Выполняют ли они то, что обещают – об этом может судить лишь регулятивное применение. Но то, что в этом применении, поскольку оно имеет место, они обладают подлинной познавательной значимостью, – это доказала первая часть нашего исследования. Даже синтетические основоположения не обладают той осязаемой реальностью, которую догматический реалист требует в глубине души: поэтому идеям не недостает ничего для трансцендентальной значимости, если у них нет таковой.
Для того, кто может представлять законы лишь как магически действующие силы, максима будет обладать реальностью совершенно несравнимой с такими природными законами. Тот же, кто способен мыслить априорно трансцендентально, не станет стирать разницу между конститутивной значимостью, как, например, у закона причинности (хотя и только для возможности опыта), и регулятивной значимостью, которую можно приписать, скажем, идее цели. Но оба этих различных вида условий опыта представляют собой сравнимые реальности. Эта сравнимость однозначно обоснована критическим значением обоих понятий как ценностей значимости.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.