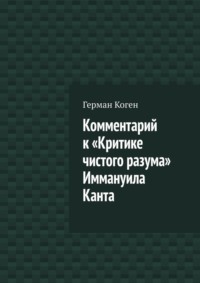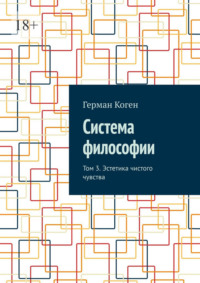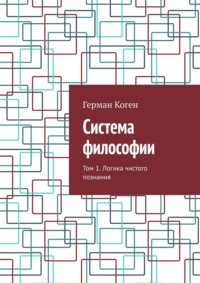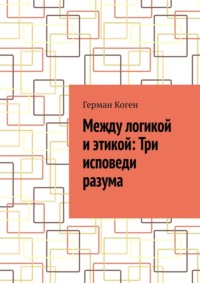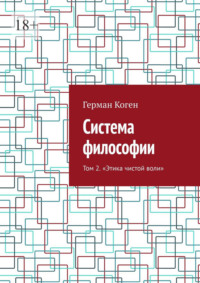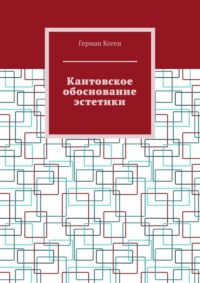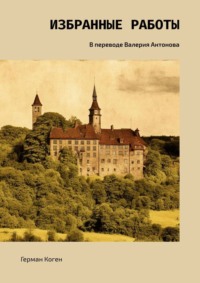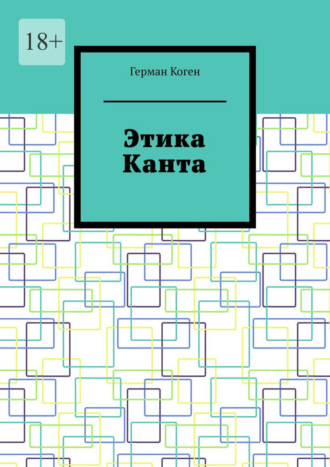
Полная версия
Этика Канта
Однако применение должно распространяться на гораздо более широкую область. И роковым заблуждением является то, что применение морали измеряется преимущественно с точки зрения психологии. Напротив, это обширная сфера истории во всех ветвях культуры, которую здесь следует учитывать. Соответственно,
Часть IV. Применение нравственного закона к праву, религии и самой истории должно быть исследовано.
Мы увидим далее, как получилось, что Кант уклонился от этого исхода исследования не только в применении, так что впоследствии в собственных построениях он рассматривал эти проблемы как части конструктивной метафизики. Во всяком случае, психологическое применение ограничивается в своем значении последующим: не долг и постулаты составляют центр тяжести этого вопроса; скорее, он лежит в учении о праве и правовых институтах. Точно так же строятся постулаты в учении о религии и религиозном устройстве. И, наконец, не столько психология человека, сколько проблема истории человечества является той областью, где применимость нравственного закона проходит свое истинное испытание.
Применение к религии связано с постулатами; но Кант не остановился на этом положительном вкладе; напротив, он, опираясь – как на факт – на библейские документы, рассмотрел возможность связи религии и этики. Это применение должно быть тщательно изучено и проверено.
Но прежде должно быть освещено применение к праву. В религии лишь литературный документ образует аналог научного факта, подобного тому, что представлен в математическом естествознании. Юриспруденция же не ограничивается таким документом, каким мог бы быть, например, corpus juris; она имеет великое развитие и теоретическое многообразие, а также практическую многогранность в правах и государствах народов.
Таким образом, не только нравы, обычаи и привычки в жизни людей составляют материал моральной философии, так что можно было бы прийти к мнению, будто психология достаточна для раскрытия и распутывания всех глубочайших первооснов и бесчисленных случайных причин нравственных отношений. Напротив, для научного здания юриспруденции и для сопоставимой с природой реальности государств, пожалуй, было бы сомнительно принимать психологию с ее методической неопределенностью как достаточный компас. Здесь, таким образом, открывается перспектива наметить внутреннюю связь основных понятий между этикой и правом.
Наконец, сама история должна быть осознана как случай применения этики. Почему не остановились на логографии? И почему не удовлетворились хроникой? Или же история – лишь пограничный случай науки и искусства? Предстоит проверить, не лежит ли понятие истории как науки в своем истинном основании на понятии этики, так что история как наука действительно представляет собой выдающуюся сферу применения нравственного закона. Тем самым применение нравственности достигло бы своей полноты, и чистота этики сохранила бы в этом применении свою универсальную значимость.
***
[1] Предисловие ко второму изданию «Критики чистого разума». Отдельное издание Хартенштейна, 1868, стр. 13, 14. D 23.
[2] Собр. соч., изд. Розенкранца, т. III, стр. 155. «Пролегомены» D 152 и далее.
[3] Eth. Nic. II, 2, 1103, b, 26.
[4] Там же. I, 1, 1094, b. 11.
[5] «Всеобщая практическая философия». Собр. соч., изд. Хартенштейна, т. VIII, стр. 20.
[6] Там же, стр. 13.
[7] Там же. Собр. соч., т. IX, стр. 175.
[8] «Основы метафизики нравов», т. VIII, стр. 54. D 51.
[9] Т. III, стр. 153. «Пролегомены» D 151.
[10] «Критика чистого разума», стр. 533. D 668.
Первая часть. Результаты эмпирического учения в их отношении к возможности этики
Первая глава. О вещи в себе как пограничном понятии
Удивление и разногласия по поводу кантовского учения о вещи в себе принадлежат к числу тех чудес, которыми история философии, как известно, не бедна, хотя и не всегда их осознает. Прояснить это странное явление можно лишь в том случае, если рассматривать его как историческую загадку в связи с другими философемами, в цепи которых оно представляет собой своевольное, но всё же принадлежащее к ней звено.
Поскольку Кант низвёл вещи до уровня явлений, он заключил о вещи в себе как об основе явления. Однако умозаключение об основе, о причине – это лишь форма нашего гипотетического мышления. Следовательно, та вещь в себе, которая основывается на таком мышлении, есть создание категории причинности, и потому она, по собственному признанию Канта, остаётся для нас «совершенно неизвестной».
Но Кант не выдержал этого «совершенно» буквально. Не только то, что она есть, остаётся для нас неизвестным, но и то, есть ли она вообще, должно оставаться для нас непостижимым; ибо этим «есть» она выводится за пределы той области, на которую трансцендентальный метод – как учение об условиях опыта – ограничивает наше знание, наше мышление, наше каузальное суждение и умозаключение. Подлинный критицизм состоит, таким образом, в отрицательном выводе: то, что обыденный опыт и вся догматическая философия считают познаваемыми как реальные вещи, есть лишь явление. А вещь в себе? Сам этот вопрос уже некритичен.
Это воззрение в равной мере является симптомом заблуждения и тяжёлого ослепления относительно основной проблемы всякого философствования, как и того, что оно на деле искажает и извращает кантовскую тенденцию.
Бесспорно, в высшей степени характерно для реализма кантовского критицизма – и это свидетельствует о ясном осознании Кантом реализма своего учения – что он признаёт скептицизм лишь в отношении сверхчувственного как правомерную и понятную теорию.
«Распространение учения о сомнении даже на принципы познания чувственного и на сам опыт нельзя счесть за серьёзное мнение, которое когда-либо имело место в какую-либо эпоху философии; это, пожалуй, было приглашением догматикам доказать те априорные принципы, на которых основывается сама возможность опыта, и, поскольку они этого не смогли, представить последний им как сомнительный» [1].
Так судит этот человек о скептицизме как о систематической теории, вдохновлённой, как известно, Юмом. И оба эти суждения хорошо согласуются. Могут ли тогда критические явления иметь тот скептический смысл, который требует для них вещей в себе?
То же самое ошибочное понимание и поныне затрудняет усвоение платоновского учения об идеях, равно как и оставляет без внимания более глубокий импульс, заключённый в элейской спекуляции. Каким образом вещи причастны идеям? Как реальность переходит от идей к вещам? Эти вопросы ошибочны и нелепы, ибо они уже разрешены смыслом и понятием идеи. Идеи как раз обозначают и гарантируют ту реальность, которую обыденный рассудок уже считает познаваемой и принадлежащей вещам.
Значит, вещей нет? И идеалист по отношению ко всему чувственному – скептик?
Ни в коем случае! Напротив, вещи суть, поскольку и постольку, поскольку есть идеи.
Вещи суть явления. Значит, они – видимость? Ни в коем случае! Напротив, явления суть, поскольку и постольку, поскольку есть законы, в которых они обретают бытие; в которых изменчивость явлений получает устойчивость. Сам закон, таким образом, есть простейшее выражение той вещи в себе, которой требует догматизм, прикрывающийся скептицизмом.
Однако закон – это лишь абстрактное выражение регулярности явлений, которую человеческое мышление открывает, изобретая её своими средствами и как бы удостоверяя её в качестве «законодателя природы». Таким образом, вещь в себе должна была бы состоять лишь из законов явлений! А мы желаем большего, чем такой закон рассудка – отнесённый к явлениям наших чувств; мы стремимся постичь силу и основу, бытие и сущность вещей.
Трансцендентальный метод отказывается от этого фаустовского порыва и учит смирению перед ним. Выражения «внутренность природы», «внутренность вещей» отвергаются с насмешкой. Внутреннее материи – «чистая химера» [2].
«Если жалобы: „мы вовсе не постигаем внутреннего вещей“ – означают, что мы не понимаем чистым рассудком, чем могут быть вещи, являющиеся нам, сами по себе, то они совершенно несправедливы и неразумны… Во внутренность природы проникают наблюдение и расчленение явлений, и нельзя знать, как далеко это продвинется со временем».
Наблюдение и расчленение, конечно, отнюдь не являются последними выражениями для открытия законов; но они тем не менее незаменимые средства для этого, и они соответствуют как выражения таинству внутреннего. Без них сами законы не могли бы быть раскрыты; равно как и они не могли бы открыть то, что мы вправе мыслить как внутреннее, – если только мы не совершаем амфиболии в отношении этой рефлективной пары понятий: внутреннее и внешнее. Законы суть реальности, которые делают действительное внутренне объективным.
Исторически трансцендентальную точку зрения можно проиллюстрировать платоновским примером: не звёзды на небе суть объекты, которые тот метод учит рассматривать, чтобы привести их к познанию; но астрономические расчёты, те факты научной реальности суть, так сказать, действительное, которое подлежит объяснению и на которое, следовательно, направлен трансцендентальный взор. Как и Платон, Декарт также обратил вопрос к raisons de l’astronomie. На чём основывается та реальность, которая дана в таких фактах? Каковы условия той достоверности, от которой видимая действительность заимствует свою реальность? Те факты законов суть объекты; не звёздные вещи.
В таком смысле вещи суть явления; они называются «представлениями», «чистыми представлениями». Ещё откровеннее они обнажаются: «они суть не что иное, как эмпирические знания» [3]. Но именно поэтому они суть всё, они суть высшее, чем они могут быть. Ибо как «знания» они названы лишь в ироническом ключе; но как таковые они основаны в познаниях. А как познания они становятся реальностями. Каким же иным образом они могли бы стать реальными, если не как «эмпирические знания», основанные в априорных познаниях; если не как объективные реальности, основанные в законах опыта?
Это всегда старый камень преткновения. Как идеи должны были бы влачить некое существование в умопостигаемом месте, чтобы означать собственное истинное бытие, так и реальности законов должны иметь собственное существование, чтобы гарантировать явлениям их бытие.
Но существование означает: быть не только в форме нашего пространственного созерцания, но и быть обозначаемым через ощущение. Законы явлений требуют и означают, далее, соединение этих наших форм созерцания с иными особенностями и условиями нашего познания. Представлять же это соединение вновь обитающим в форме пространственного созерцания и, наконец, также обозначаемым через ощущение – это то, что древние называли τρίτος ἄνθρωπος.
Здесь действует ничто иное, как почти неистребимая путаница между наглядным представлением и понятийным мышлением. Закон есть реальность – это означает: реальность следует мыслить как понятийную мысль, а не как наглядный, созерцаемый образ; как знак ценности познавательной значимости, и ни как что иное. Явление же – это полузрелый объект, который мы противопоставляем себе по типу созерцания.
В необходимости отделить реальность понятия от мнимой реальности представления Кант усматривал более глубокий повод для разделения и изолированного исследования чувственности и рассудка: какой вклад каждое из них вносит в целое познания. Ибо в чувственности заключался теперь не только источник представления, эмпирического созерцания, но и источник чистого созерцания, которое благодаря этой чистоте стало однородным рассудку, мышлению, понятию. Следовательно, даже чувственное созерцание отнюдь не является той инстанцией, на которую может опираться предрассудок представления: и оно выходит за пределы образов представления и в силу своей чистоты указывает на творения мышления.
А другое средство – сами категории являются условиями чистого мышления, то есть того средства познания, которое почти что присутствует и в чистом созерцании, поскольку обосновывает для него предмет, познание. Категории, следовательно, суть сами «правила» явлений, понятийные единства, которые разворачиваются в «синтетических основоположениях» в виде формул законов, и в них, как, например, в основоположении о субстанции, обосновывается объективное бытие.
Значение понятия явления вновь было истолковано ошибочно, хотя и поучительным образом. У Канта будто бы «два различных понятия о явлении» [4]. «Явление есть предмет чувственного созерцания a posteriori и a priori; это – правильное и единственно допустимое понятие явления, какое встречается и в трансцендентальной эстетике». Другое понятие явления – это понятие аналитики, «поскольку явления мыслятся как предметы согласно единству категорий». Неужели, согласно Канту, существует не только два различных понятия о явлении, но и, как следствие, два понятия о предмете? Одно понятие обозначает предмет чувственного созерцания, другое – предмет единства категорий! Но куда же девается главное правило: понятия без созерцания пусты, созерцание без понятий слепо? Один предмет, выходит, был бы слепым, а другой – пустым! Одно явление – пустым, а другое – слепым!
В том определении явления из эстетики было упущено одно словечко: «Неопределенный предмет эмпирического созерцания называется явлением» [5]. А то, что делает этот предмет определенным, – это категория. Категории суть «понятия о предмете вообще, посредством которых созерцание его рассматривается как определенное в отношении одной из логических функций суждений» [6]. Это – «объяснение категорий», которым обогащено второе издание.
Таким образом, речь идет не о другом понятии явления, а о том определении, которое добавляется в ходе того же трансцендентального исследования и позволяет определить предмет, остававшийся неопределенным при изолированном рассмотрении созерцания, в свете чистого мышления; а именно – определить его через единство категорий, то есть через правила и законы. Законы наполняют понятие явления, обусловливают его значимость, его реальность как предмета опыта, его объективную реальность.
Но почему Кант не предпочитает называть такую прочную реальность просто предметом, почему он избегает двусмысленного выражения «явление»?
Потому что «предмет» не менее двусмыслен. Если «явление» вызывает подозрение в скептицизме, то «предмет» порождает мрак догматизма. Однако следует усвоить и то, и другое: так называемые вещи обладают своей реальностью в природе как «совокупности законов явлений» [7]; они суть явления. Они даже не существуют один раз как чувственные вещи в форме смутного познания, а другой раз – как интеллигибельные предметы. И если бы это было так, то существовало бы больше интеллигибельных вещей! Вещи суть явления; их реальность коренится, находит свое всеобщее основание в законах опыта. Это – одна сторона дела.
Если скептицизм говорит: «Значит, вещей не существует!», то ответ гласит: явления суть объекты, единственные, подлинные вещи, предметы чистого созерцания, определенные законами чистого мышления, причем само это созерцание благодаря своей чистоте в равной мере восприимчиво и способно к законам. Тот, кто требует иного рода реальности, находится за пределами трансцендентального метода. В рамках этой методологии не существует иного способа объективации, кроме дедукции из условий научного опыта.
Доказать объективную реальность означает вывести ее из понятия возможности опыта, из условий, на которых основывается возможность опыта. Возможность опыта впервые обосновывает возможность предметов опыта – и гарантирует ее. Таков буквальный смысл «высшего основоположения всех синтетических суждений» [8], или всех синтетических основоположений.
Будущим поколениям будет трудно понять, как можно было упустить этот ключевой момент нового, трансцендентального учения об опыте. Правда, у самого Канта, которому значение его основного понятия прояснилось лишь в процессе изложения; который во введении к аналитике в качестве «замечания, имеющего влияние на все последующие рассуждения» [9] впервые проясняет для себя и читателя понятие трансцендентального, после того как в общей вводной части дал ему недостаточное определение, так что второе издание должно было добавить здесь главное; который лишь в предисловии ко второму изданию «Критики» охарактеризовал «измененный метод мышления» с ясным обзором; – у самого Канта изложение не могло сразу же достичь успеха в том, чтобы осветить то, что первооткрыватель выявил в напряженной борьбе. Та же судьба постигает все новаторские идеи, в подлинно исторической связи которых история мыслей, слово о процессе спекулятивной идеи становится истиной.
Не Аристотель продолжает Платона в его глубочайших мотивах, а новое время. Так и Архимед пролежал погребенным в течение Средних веков, пока Галилей не извлек его, продолжив его дело. Новая философия, рожденная в итальянском Возрождении, была проникнута духом, распространяемым флорентийским платонизмом. И сам Кант в сравнительно многочисленных и важных местах указывает на Платона – не только в учении об идеале, но даже в основном вопросе критики разума.
Изложение самого Канта страдает от основного недостатка: оно не проводит надежного и последовательного различения между совершенно новым трансцендентальным a priori и метафизическим a priori. А то, что Кант, хотя и осознал постепенно ясно и высказал отчетливо, но проводил неуверенно и неравномерно, – это уж тем могли упустить его последователи; те «знатные умы», которые «гениальными взмахами» перелетали поле опыта, где «частные эмпирические законы» стоят на неусыпной страже и где каждый шаг завоевания требует упорного труда.
Он и сегодня кажется столь скудным, этот содержательный момент трансцендентального метода: опыт дан; следует открыть условия, на которых основывается его возможность. Если найдены условия, делающие возможным данный опыт – делающие возможным таким образом, что он может быть признан a priori значимым, что ему может быть приписана строгая необходимость и неограниченная всеобщность, – тогда эти условия следует обозначить как конститутивные признаки понятия опыта, и из этого понятия затем можно дедуцировать все, что претендует на познавательную ценность объективной реальности.
Это и есть все дело трансцендентальной философии. Таким образом, опыт дан в науке Ньютона, в математическом естествознании; но не в «вещах опыта». И это понимание задачи – отношение к опыту как к данной науке – вновь было уточнено во втором издании, отдельно для математики и для чистого естествознания, по образцу «Пролегомен», хотя в этом разделении математики и чистого естествознания так и не было достигнуто полной ясности.
И эта задача считается скудной как философская задача! Опыт дан, он действителен как факт науки; остается лишь показать, как он возможен как a priori значимый, как он делается возможным, – для этого и нужен трансцендентальный аппарат. Сам Кант задавал себе и своим читателям этот вопрос: вопрос не только о самостоятельной ценности философии, но одновременно о судьбе человеческого разума и о медленном ходе, в котором она осуществляется в истории научного познания.
Как все было бы иначе, если бы трансцендентальный метод мог сам придумать возможный опыт! Если бы он не был привязан к данному опыту, чтобы из него заимствовать его понятие и сделать нормой реальности. Если бы он мог установить «вообще возможный» опыт!
Никому иному, как Фр. Альберту Ланге, довелось выдвинуть возражение против нашей интерпретации трансцендентального метода, основанное на мнении, будто задача состоит в том, чтобы объяснить данное описание из понятия возможного опыта. При таком чрезмерном акценте на чисто трансцендентальной точке зрения возникла бы «тавтология, что опыт следует объяснять из условий вообще возможного опыта» [10]. Однако в действительности дело обстоит иначе: вообще возможный опыт определяется из условий данного опыта. И это, несомненно, не тавтология, как ясно свидетельствует догматическая метафизика.
Корень этого недоразумения имеет две ветви: во-первых, мысль о том, будто вся философия лишится содержания, а не только достоинства, если из условий возможности данного опыта будет выводиться возможность опыта вообще; а во-вторых, фактическую ошибку, будто опыт дан в вещах, а не в науке.
Против простой однородности этой трансцендентальной дедукции охотно прибегают к метафизической. Если можно удостовериться, что условия данного опыта, которые должны решать судьбу всех возможных, коренятся в глубинных основаниях нашего духа, то чувствуешь себя утешенным перед режущей остротой этого решения. В самом деле, выражение «форма созерцания», «форма мышления» – это пережиток метафизической дедукции, который лишь благодаря изменению коррелятов «материя – форма» в соответствии с «трансцендентальной рефлексией» [11] становится безвредным. Однако центр тяжести при объяснении формы всегда лежит в трансцендентальном применении, например, в том, чтобы сделать возможной понятность геометрии.
Таким образом, те устойчивые факторы имеют ценность a priori не как формы нашего человеческого созерцания и нашей человеческой синтетической деятельности, а исключительно потому, что они обусловливают действительную действенность нашего научного познания, потому что математика и чистое естествознание могут быть поняты как нечто, изначально заложенное в нашем духе, – лишь в этом переносе, согласно строгому значению трансцендентального a priori, допустимо говорить: a priori пребывает в нашем духе, является его формой. В этом смысл неоднократно подчеркиваемого Кантом отказа от мысли, будто a priori является врожденным.
Для понимания настоящего исследования полезно сразу же заявить: и для этики врожденное a priori должно быть устранено. Любопытство к врожденному, поскольку оно выходит за пределы физиологического эксперимента или метаматематической спекуляции, относится к вопросам о внутренней сущности вещей.
Ту же самую метафизическую уловку применяет Ланге, чтобы избежать этой мнимой тавтологии: категории должны быть «необходимо еще чем-то помимо того, что они являются условиями опыта». «Это у Канта следует искать в их обозначении как „родовых понятий чистого разума“, тогда как мы здесь подставили на их место „организацию“». Однако эти родовые понятия суть скорее остатки метафизической дедукции, и во второй редакции трансцендентальной дедукции они были окончательно обесценены, поскольку тот компромиссный вариант о «субъективных задатках, вложенных в нас вместе с нашим существованием» [12], как «преформационная система чистого разума», был решительно отвергнут. Но может ли «организация» предъявить более обоснованные права?
Многообразные ошибки, содержащиеся в этой реакции, не могут быть здесь разобраны; для знатока достаточно указать на Ламберта, который также исходил из «простейшего» как из последних и неизменных элементов. Трансцендентальный метод ищет не эти гипотетические конечные формальные элементы нашего мышления, а «высшие принципы» опыта, данного в печатных книгах и реализовавшегося в истории. Если эти принципы хотят иметь a priori значимость в пределах предполагаемого опыта, они не могут быть выведены из мира вещей – ибо a priori есть то, «что мы сами вкладываем в вещи» – здесь вступает в силу метафизический аргумент: принципы получают свои «истоки» в формах нашего мышления, в функциях суждения; условия опыта становятся его формальными условиями.
Так возникает отношение принципа к категории. Если синтетический принцип должен обрести трансцендентальную значимость, то прежде всего происхождение категории должно быть a priori. В этом употреблении вновь проявляется двусмысленность a priori; оттенок временного в нем, кажется, не устранен. Не простейшие и потому, возможно, априорные элементы нашего мышления – кто поручится за них? – а зрелейшие и исторически удостоверенные принципы познания содержат достоверность опыта, составляют гарантию реальности. Условия данного опыта – это синтетические принципы, они определяют возможность опыта; а возможность опыта обосновывает возможность объектов опыта. Иными, более современными словами: принцип, закон есть выражение реальности; закон есть вещь в себе.
Высший принцип синтетических, опытных суждений следует понимать так: возможность опыта е с т ь одновременно, содержит в себе возможность объектов опыта. Ибо только она их гарантирует. Насколько истинны принципы, настолько истинны и объекты. Реальность принципов означает реальность объектов. Категории, понятийные, синтетические единства принципов суть лишь понятия о «предмете вообще»; но поскольку им соответствуют созерцания, из «предмета вообще» возникает особенный, определенный предмет. Ведь и созерцание имеет свои законы – чистое созерцание. Тот предмет эмпирического созерцания, который представлен в чистом созерцании и определен категориями, есть явление в трансцендентальном смысле, обладает объективной реальностью, является случаем закона, есть предмет опыта. Ибо закон и объективная реальность равнозначны.