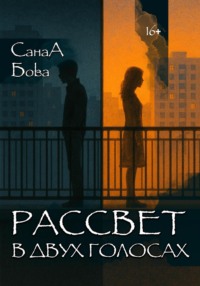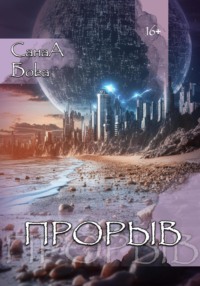Полная версия
Слёзы Индии
– В такие вечера кажется, что беда ждет за каждым углом, – ответил он, пытаясь улыбнуться, но во взгляде его была тревога, которую он не пытался скрыть.
Она почувствовала, как невидимая рука задела её плечо. Это был не толчок, не прикосновение, а ощущение, как если бы кто-то провёл по воздуху за её спиной, оставив после себя едва уловимый холод. В этот момент из-за угла вынырнул первый человек: ростом выше Джона, в чёрной рубашке, с обритым затылком и длинными волосами, доходившими до чёрных дхоти. Он двигался без спешки, будто был уверен, что им некуда бежать. Следом за ним появился второй – худой, жилистый, в тёмном свитере, лицо которого терялось в тени. Третий не шёл, он уже стоял у выхода, прикрыв им путь назад.
– Не суетитесь, – сказал первый. Его голос был низким, ровным, в нём не было угрозы, но была сила, от которой холодело внутри. – Нам не нужна драка.
– Что вам нужно? – спросил Джон, вставая между мужчиной и Санадж, хотя знал, что эта преграда едва ли что-то изменит.
В ответ последовала только короткая усмешка, в которой не было ни доброты, ни ненависти, только усталость человека, который слишком долго томился в ожидании.
– Санадж, – спокойно обратился второй, тонкий, с острыми чертами, – с тобой хотят поговорить.
– Я не пойду никуда, – тихо, но твёрдо сказала она, даже не пытаясь сделать шаг назад. – Если вам есть что сказать, говорите здесь.
В этот момент третий сделал движение, не резкое, но всё вокруг произошло с невероятной скоростью: Джон успел шагнуть вперёд, закрывая Санадж, первый мужчина, словно бы нехотя, поднял руку, а второй приблизился к ней почти вплотную. Всё слилось в потоке – голос, шаг, свет фонаря, капля воды, упавшая ей на щёку, запах жасмина, прорвавшийся сквозь чужую рубашку, и что-то ещё – металлическое, острое, как короткий вскрик внутри.
– Пойдём с нами, – сказал он чуть громче. – Или будет хуже.
– Не трогайте её, – Джон шагнул вперед, но получил удар кулаком в бок, не очень сильный, но точный, так бьют люди, привыкшие не устраивать сцен.
Санадж в этот момент почувствовала резкую боль в плече – кто-то сжал ей руку слишком крепко, ногти впились в кожу, и она, инстинктивно вырвавшись, сделала шаг вбок, оступилась, но не упала. Всё вокруг снова стало густым, цветным, она услышала только дыхание – своё и Джона, шум воды в сточной канаве, чей-то крик с другого конца переулка.
– Оставьте его, он тут ни при чём, – выдохнула она, – я пойду, если отпустите.
– Нет, – тихо, почти со сдержанным гневом сказал Джон. – Ты не обязана идти.
Мужчины переглянулись. Один кивнул другому, тот отпустил её руку, но тут же замахнулся, слишком резко, чтобы она успела увернуться. В этот момент всё смешалось: она успела оттолкнуть Джона, заслонив его собой, но удар скользнул по её боку – не сокрушительный, а острый, словно лезвие лишь коснулось её плоти, оставив след судьбы. На секунду она закачалась, а потом почувствовала, как по боку растекается тепло. В нос ударил запах крови, смешанный с жасмином, – именно так пахло её детство в доме у больной бабушки, когда резали первые цветы для подношения.
Джон бросился к ней, и тут же второй мужчина схватил его за ворот, силой оттащил назад. Санадж попыталась поднять руку, но тело её не слушалось: она видела всё будто со стороны – свою рубашку, на которой проступает пятно, каплю дождя на реснице, лицо Джона, искажённое страхом, и руки, которые держат его так, что он не может даже вдохнуть.
– Всё, – тихо сказал первый, – хватит. Нам нужна только она.
– Не выйдет, – едва слышно выдохнула Санадж, сжимая рану, и вдруг, сама не зная откуда, ощутила внутри странное облегчение, словно именно этот момент был её границей, за которой не останется ни страха, ни памяти, ни долга.
Джон резко вывернулся, ударил мужчину локтем, тот ослабил хватку, и на секунду все застыли, в этом напряжении, в этом движении, когда не ясно, кто первый сорвётся с места. В этот миг за спиной раздался женский крик, кто-то из жильцов выглянул в окно, по асфальту побежала вода, и всё вокруг стало ещё гуще, чем прежде.
– Беги! – выдохнул Джон, и они вместе, не оглядываясь, рванули вперёд, скользя по мокрому камню, через двор, мимо коробок и мусора, чувствуя за спиной горячее дыхание погони и тяжёлый, приторный запах жасмина, который теперь уже не был только памятью, а стал настоящей, живой болью.
В этот короткий миг, когда они вырвались из переулка, город вокруг вдруг сгустился, лужи под ногами будто раздвигались, а стены домов становились выше, чем прежде. Дождь опять налетел, теперь уже как настоящее испытание: вода лилась с крыш, стекала по лицу, забивала дыхание, но всё это было ничто по сравнению с острой, жгучей болью, которая прострелила бок Санадж. Она не могла понять, много ли крови, но чувствовала, как ткань рубашки намокла, прилипла к коже, и с каждым шагом отдавалась тяжестью по всему телу.
Джон вёл её вперёд, наощупь, иногда останавливался, чтобы убедиться, что никто не догоняет, и тогда, каждый раз, он встречался взглядом с теми же лужами света, в которых отражались только их фигуры – вытянутые, хромающие, потерявшие прежнюю уверенность. Они свернули в глухой закоулок, где над помойкой висела старая жестяная вывеска – когда-то тут торговали специями, теперь только облупленные стены да пара запотевших окон с чужими тенями. За углом что-то громко хлопнуло – то ли ставня, то ли дверь, но они не остановились: страх гнал их, а за страхом шёл тот особый инстинкт, когда все слова, все воспоминания становятся телесными, голыми, почти животными.
– Держись, – прошептал Джон, хватая Санадж за руку. – Дыши медленно, не падай. Всё уже почти позади.
– Я могу идти, – тихо отозвалась она, но сама понимала: ноги подкашиваются, голова кружится, а запах крови – густой, солёный, то и дело уступает место жасмину, который теперь стал не воспоминанием, а острой, почти физической угрозой.
Впереди мелькнула фигура, но, к счастью, это была всего лишь женщина с ребёнком, спешившая к себе домой, укутанная в пластиковый плащ. Она бросила на них короткий взгляд, не столько сочувствующий, сколько встревоженный, но не остановилась, лишь плотнее прижала к груди мальчика. Город в этот момент казался территорией, где каждый сам за себя, и даже самые добрые глаза становятся слепыми, когда слышат чужую боль.
Они выбежали на большую улицу, где шум машин и свет фонарей на секунду подарили ощущение безопасности. Джон почти потащил Санадж в проулок, прикрывая её спиной. Она крепко сжимала его руку, не думая ни о стыде, ни о приличиях, ни о том, что их видит кто-то из знакомых. Боль в боку отзывалась тяжестью в плечах, но она упрямо шла, лишь изредка морщась и кусая губу, чтобы не закричать.
– Нам надо выбраться из города, – быстро сказал Джон, наклоняясь к её уху. – Там, в предгорьях, есть старая дорога, я знаю, как туда пройти. Если удастся укрыться, сможем прийти в себя и решить, что делать дальше.
– Я смогу, – выдохнула Санадж. – Только не останавливайся. Если я упаду, оставь меня – ты должен идти.
– Даже не думай, – с глухой яростью отозвался Джон. – Я никуда не уйду один. Мы уйдём вместе, слышишь? Всё остальное неважно.
Позади уже не было слышно шагов, но страх всё равно не отпускал, как не отпускает старый сон: вроде бы проснулся, а сердце ещё дрожит от кошмара. Они пересекли небольшой сквер, где пахло свежескошенной травой, и остановились на минуту под навесом крыши, чтобы перевести дух. Дождь в этом месте бил по железу особенно громко, и каждый удар казался предупреждением: нельзя медлить, нельзя верить в передышку.
Санадж прислонилась к стене, нащупала рану и попыталась определить, насколько всё серьёзно. Ткань промокла насквозь, под пальцами ощущалась липкая влага, но кровь уже не текла так сильно, как в начале. Она посмотрела на ладонь, на ней остался тёмный след, который тут же смыл дождь, превратив в розовый ручеёк. В этот момент её не покидала странная ясность: боль становилась частью мира, не чем-то чужим, а свидетельством того, что она по-прежнему здесь, жива, чувствует.
– Мне нужно немного отдохнуть, – сказала она, опускаясь на корточки. – Только минуту.
– Я посижу с тобой, – тихо ответил Джон, присаживаясь рядом. – Ты сильная. Не надо всё держать в себе.
– Не знаю, сильная ли, просто иногда не хочется умирать. Даже когда кажется, что другого выхода нет.
Он молча обнял её за плечи, и она впервые за долгое время позволила себе опереться на другого и почувствовать, как под руками бьётся не только её сердце, но и чужое – сильное, тревожное, живое. Они сидели под этим навесом, слушая, как дождь барабанит по крыше, как где-то за стеной проезжает велосипед, как в переулке снова появляется запах жасмина, только теперь он смешивается с запахом крови так, что уже невозможно отличить одно от другого.
– Почему всё пахнет жасмином? – вдруг спросила Санадж, даже не надеясь на ответ.
– Может, потому что мир всегда смешивает красоту и боль, – негромко сказал Джон, не отводя взгляда от неба. – Может быть, это напоминание: пока мы чувствуем оба запаха, мы ещё живы.
Она закрыла глаза, вдыхая этот тяжёлый, слишком насыщенный воздух, и впервые за день ей стало чуть легче, не потому, что боль ушла, а потому что её стало можно разделить, назвать, рассказать другому. Она понимала: впереди ещё будет бег, будет страх, будет новая боль, но сейчас, в этот короткий миг, город держал их обоих в ладонях, не отпуская, но и не раздавливая.
– Давай попробуем выбраться отсюда, пока совсем не стемнело, – сказал Джон. – Я помогу тебе, ты только держись.
Санадж поднялась, собрала всю силу, которая у неё осталась, и, держась за его руку, шагнула в темнеющий двор, где их уже ждала не только опасность, но и возможность, впервые за долгое время, быть не одной.
Они шли уже без лишних слов, будто бы вся энергия ушла на саму возможность двигаться вперёд. Дождь стал тише, но воздух не облегчился, наоборот, тягучая влага нависла над улицами, прижимая город к земле. Санадж ощущала, как каждая клетка её тела сопротивляется усталости: бок ныл, по спине стекал холодный пот, а голова периодически уходила в звонкую пустоту, из которой выныривали только короткие обрывки мыслей. Джон почти нёс её, когда они миновали железнодорожный мост и свернули на пустырь между гаражами, где сквозь лужи и сырую траву пробивалась глина. Здесь было темнее, чем на улице, но зато ни один из преследователей не мог видеть их тени, не потому, что они исчезли, а потому, что для усталого, раненого человека мир сужается до круга вокруг собственного тела.
– Осталось немного, – выдохнул Джон, глядя вперёд, где за металлическим забором виднелась полоса кустарника. – За этой дорогой начинается старый склон. Там есть дом, про который все забыли. Нам туда.
– Я… я могу, – пробормотала Санадж, хотя в голосе уже не было уверенности.
– Ты сможешь, – твёрдо сказал он. – Я знаю тебя. И ты знаешь себя.
ГЛАВА 4. Стеклянный перевал_часть 2
Время неумолимо ускорялось, его бег был слышен в каждом ударе сердца, в каждом шаге по скользкой глине, в каждом выдохе, который вырывался из груди с особой, непрошеной остротой. Джон держал Санадж за руку, не потому что боялся потерять её в темноте, а потому что ощущал, как тонок стал этот невидимый мост между усталостью и окончательным срывом. Они миновали ржавую калитку, и их встретил запах ночной травы, в котором, как всегда, таился жасмин: то ли запах был слишком острым от дождя, то ли ночь слишком напитана памятью, но в этот момент казалось, что все запахи мира собрались на этом клочке земли, чтобы напомнить им обо всём, что осталось позади.
За спиной, в городе, ещё слышались далёкие голоса, то ли крики, то ли эхо чьей-то ссоры, то ли просто отголоски чужих жизней, которым не было дела до их боли. Дождь здесь почти иссяк, но по склонам стекали тонкие ручьи, превращая тропу в полосу препятствий: каждый шаг требовал усилия, каждый камень был готов поддаться под ногой, а любое дерево, за которое можно было ухватиться, скользило в ладони так, словно само не хотело быть свидетелем бегства.
– Подожди, – прошептала Санадж, на миг останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Она чувствовала, как рана в боку пульсирует всё сильнее, но теперь эта боль была уже не только страхом, но и доказательством того, что она всё ещё идёт, что жизнь не ушла окончательно из-под контроля.
– Не останавливайся, – тихо, но твёрдо сказал Джон, – мы почти у холма, там можно будет спрятаться, никто не пойдёт за нами в темноте.
– Как ты нашёл эту дорогу? – спросила она, пытаясь отвлечься от ощущения липкой крови на коже, от тяжёлого запаха мокрой травы, от собственного тела, которое уже переставало подчиняться.
– Я когда-то много раз бывал здесь с отцом, – коротко ответил он, – когда ещё никто не боялся ходить за город. Тогда всё было по-другому: эти холмы казались местом для отдыха, а теперь это последнее убежище для тех, кому некуда больше идти.
Склон был крутым, земля уходила из под ног, в сапоги попадала вода, но они не отпускали друг друга: Джон придерживал Санадж за талию, стараясь поддержать её так, чтобы не навредить, а она, стиснув зубы, упрямо шла, иногда почти волоком, но не позволяя себе ни стонать, ни останавливаться. Где-то сзади ещё послышался отдалённый топот, возможно, преследователи не оставили надежду настигнуть их, возможно, это был только ветер, который гнал по склону сухие листья, но даже этот звук резал по нервам, заставляя сердце сжиматься от предчувствия.
– Смотри под ноги, – предупредил Джон, – здесь бывает скользко, особенно после такого дождя.
– Я не могу больше… – выдохнула Санадж, но всё равно продолжала идти, прижимая ладонь к ране. Она чувствовала, как под пальцами пульсирует кожа, как дрожит тело, но шла, потому что не могла позволить себе остановиться на середине склона: в этом была не только физическая борьба, но и почти ритуал, способ доказать самой себе, что границы слабости определяет она, а не чужая сила.
Они добрались до узкой тропы, ведущей к старому дому, который был наполовину спрятан за валунами и дикими кустами жасмина. Здесь воздух был холоднее, чем внизу, но и чище, и, несмотря на боль, Санадж почувствовала, что внутри медленно появляется место для надежды. Она прислонилась к стене, слушая, как Джон запирает ворота изнутри, стараясь не стучать слишком громко. Всё происходящее казалось неправдой: дом, который едва держался на сгнивших балках, покосившиеся ставни, разбитое окно, за которым в темноте плясали капли дождя.
– Заходи, – сказал Джон, помогая ей переступить порог. Его руки были сильными, но в движениях не было ни резкости, ни спешки, только та особая забота, которую невозможно подделать.
Санадж вошла внутрь, сразу ощутив, как к ней возвращается дрожь: здесь пахло не только травой и землёй, но и временем – пылью, старыми книгами, глиной и неизменным жасмином. Дом был пуст, только в углу стоял старый стол с облупленной поверхностью, рядом валялась разбитая кружка, на полу следы былой жизни: чьи-то забытые тапки, кусок яркой материи, закатившаяся в угол глиняная лампа.
– Здесь безопасно, – сказал Джон, прикрывая за собой дверь. – Никто не найдёт нас, если мы не будем шуметь.
– Я… – начала Санадж, но слова не сразу нашлись, потому что всё внутри было занято болью, страхом и странной, почти иррациональной благодарностью. Каждый вдох отдавался резкой пульсацией в боку, где ткань липла к коже, пропитанная теплом.
– Всё хорошо, – он успокаивающе посмотрел на неё, – теперь мы можем отдышаться. Я принесу воды, ты пока посиди.
Она опустилась на старый ковёр у стены, прижалась к прохладному дереву, закрыла глаза и почувствовала, как сердце всё ещё гудит в груди, не зная – замрёт ли оно от страха или от облегчения. Лёгкая слабость туманила мысли, но здесь, в тишине, тело начинало искать равновесие, цепляясь за тепло стены. За пределами дома бушевал дождь, ветер стучал в ставни, но здесь, в этом забытом всеми доме, ночь становилась длиннее, чем казалось в городе, и внутри появлялось нечто похожее на покой, тот покой, в котором боль становится тише, а запах жасмина перестаёт быть только напоминанием о крови.
Пока Джон искал воду, Санадж вглядывалась в полутёмное пространство: дом дышал, как живое существо, принимая её боль и усталость без осуждения и расспросов. Сломанная дверца буфета скрипела на ветру, в углу, где когда-то стоял очаг, теперь лежал слой холодного пепла и полусгнившие ветви, а на стенах остались пятна, которые можно было принять и за следы былого огня, и за отблески старых праздников, прошедших безвозвратно. Она думала, что в таких местах прошлое становится видимым, как рисунок на коже, и каждая деталь – часть чужой, уже исчезнувшей жизни.
Джон появился с миской воды, откуда поднимался слабый пар: значит, где-то под домом ещё оставалась живая труба, через которую вода попадала в старую кухню. Он сел на корточки рядом, и осторожно взял руку Санадж.
– Давай я помогу, – сказал он, доставая из своей сумки кусок чистой ткани и небольшой аптечный флакон. Его движения были неуверенными, но заботливыми; в этой неловкости чувствовалась не слабость, а уважение к боли другого.
Санадж с трудом расстегнула верх пуговицы на рубашке, обнажая бок – рана выглядела неглубокой, но кровь продолжала сочиться, а вокруг уже вздулась синяя полоса, обещающая наутро стать фиолетовой. Джон приложил мокрую ткань, и она вздрогнула от холода, но промолчала, вцепившись пальцами в ворс ковра.
– Не бойся, – негромко сказал он, – это пройдёт. Ты сильнее, чем думаешь.
– Мне казалось, я не чувствую боли, – прошептала Санадж, – пока не поняла, что её можно делить. Страшно не тогда, когда больно, а когда никто не может её увидеть.
– Ты всегда была одна? – спросил Джон, аккуратно протирая рану.
– Иногда мне казалось, что да, – честно ответила она, закрыв глаза, – даже когда вокруг были люди. В доме, в галерее, на улицах. В детстве я мечтала исчезнуть, чтобы никто не знал, где я, чтобы не приходилось каждый раз объяснять, почему я не похожа на других.
Джон слегка улыбнулся, не весело, а грустно, как человек, который тоже привык искать себя в бегстве.
– А мне всегда казалось, что я слишком заметен, – сказал он. – Как будто все сразу понимают, что я чужой. Даже если молчать, даже если не смотреть в глаза.
Он смочил салфетку водой, осторожно провёл по синяку, обрабатывая ссадины, и вдруг неожиданно для себя добавил:
– Знаешь… я действительно испугался за тебя, там, на улице. Я боялся, что не сумею защитить тебя. Я думал только о том, что если что-то случится с тобой, я не смогу простить себе этого никогда.
Санадж почувствовала, как её страх начинает отступать, уступая место чему-то совсем другому, почти нежности, тому странному облегчению, которое приходит, когда понимаешь: тебя не оставили, даже если ты об этом не просил.
– Ты ничего мне не должен, – мягко сказала она, глядя ему в глаза. – Но я благодарна за всё, что ты уже сделал для меня. За то, что не отвернулся, даже когда было страшно. И за то, что ты здесь сейчас.
Джон не ответил сразу, только крепче сжал ткань в руках, словно вместе с ней держал и её слова, и эту доверчивую тишину между ними.
В этот миг с улицы донёсся новый порыв ветра, который принёс с собой густой, влажный аромат жасмина, теперь этот запах не пугал, а скорее умиротворял, напоминая о мире вне боли, вне опасности, вне сегодняшней ночи. В углу затрещал пол, словно в ответ на их молчание, и оба вдруг засмеялись, не громко, а тихо, как смеются люди, слишком долго скрывавшие страх и вдруг обнаружившие, что он не всесилен.
– Здесь есть свечи, – сказал Джон, осматривая полки. – Если зажечь одну, станет чуть теплее.
– Давай, – ответила Санадж, слегка поморщившись от попыток сесть по удобнее. – Я устала бояться темноты.
Джон зажёг свечу, и жёлтый круг света мягко разлил по комнате тепло, теперь на стенах танцевали тени, и всё казалось не таким страшным, как в ту минуту, когда они вбежали сюда, спасаясь от преследования. За окном всё ещё шумел дождь, в саду сотрясались кусты жасмина, и, несмотря на усталость, в душе Санадж рождалось новое ощущение: не просто выживание, а возможность начать дышать, чувствовать и быть с кем-то ещё в этом забытом доме.
– Ты когда-нибудь верил, что можно начать всё заново? – спросила она.
– Иногда, – честно ответил Джон, – когда дождь такой сильный, что смывает даже следы страха. Сегодня именно такой вечер.
Они замолчали, слушая, как свеча потрескивает на сквозняке, как в саду затихают последние всплески ночной жизни, как их дыхания постепенно выравниваются в одном ритме. Всё, что было до этого – бег, кровь, страх, сдвинулось на второй план: теперь оставалась только ночь, дом и двое людей, которые впервые за долгое время могли сказать друг другу больше, чем позволяет обычная жизнь.
Свеча мерцала на столе, освещая пятна на стенах, хрупкие крошки пыли в воздухе и лица, которые за последние часы словно прожили целую жизнь. За окнами дождь наконец уступил место тихому туману, в саду воцарилась тягучая, густая тишина, сквозь которую иногда прорывался скрип ветвей или слабый стон земли, напоённой влагой. Санадж сидела у стены, завернувшись в старое покрывало, нашедшееся в углу, оно пахло чем-то странно тёплым, немного заброшенным, как письма, которые никто не открывал долгие годы.
Её взгляд задерживался на деталях: облупленная штукатурка над дверью, вмятина на полу, где когда-то, вероятно, стояла лавка, след обуви в пыли, который мог быть недавним, а может, оставался с прошлой жизни этого дома. Всё вокруг было полупрозрачным, как сны на грани забытья, но каждый звук, каждая царапина на дереве напоминала: сейчас они живы, сейчас их никто не преследует, сейчас дом – это не просто место, а их собственная граница между прошлым страхом и будущей надеждой.
– Как ты? – спросил Джон, подвинувшись ближе. Его голос был спокойным, но в этой спокойности звучал вопрос, который редко звучит между взрослыми: могу ли я тебя защитить, если снова начнётся бег?
– Лучше, чем ожидала, – честно ответила Санадж. – Я думала, что не выдержу, что остановлюсь раньше. Но теперь понимаю: пока есть рядом кто-то, кто не боится остаться, можно двигаться даже через боль.
Он взял её за руку, крепко, но не требовательно, а скорее чтобы напомнить: здесь, в этой ночи, у каждого из них есть не только свой страх, но и своя сила, даже если она рождена не в упрямстве, а в усталости. Они сидели в молчании, прислушиваясь к себе, к друг другу, к дому, который впервые за много лет снова был кому-то нужен.
В глубине дома затрещала доска – возможно, ветер шевельнул застарелый хлам, а может, и маленькое животное искало убежище на чердаке. На мгновение они оба замерли, прислушиваясь, и в этом напряжении не было страха, скорее привычка замечать опасность в малейших изменениях пространства.
– Ты веришь, что мы теперь вне опасности? – тихо спросила Санадж, не отводя взгляда от пламени свечи.
– Нет, – честно ответил Джон. – Но впервые за долгое время я верю, что это не важно. Сейчас важнее просто быть рядом, быть здесь, не терять себя из-за страха.
Она улыбнулась, впервые по-настоящему за этот долгий день, и почувствовала, что улыбка эта не только для него, но и для самой себя, как знак того, что границы уязвимости иногда становятся самым прочным укрытием.
– Мне нужно отдохнуть, – сказала она, опускаясь на бок, так чтобы больной бок остался сверху. – Только немного, чтобы потом снова идти.
Джон поправил покрывало, подложил ей под голову свернутую куртку, сел рядом и молча смотрел, как в её лице понемногу гаснет напряжение, уступая место сонной мягкости. В этой тишине время текло медленнее, чем прежде: ночь становилась их собственным убежищем, их временем для восстановления и принятия всего того, что должно было остаться за границей города.
Пламя свечи колебалось, отбрасывая причудливые тени на потолок. За окнами уже не было видно ни дождя, ни звёзд, только светлая дымка тумана да редкие всплески аромата жасмина, который теперь казался не столько тревожным, сколько печальным, как память о потерянном доме детства. Сон подступал постепенно, тянулся мягкой тяжестью по векам, и перед тем как окончательно отдаться этой ночи, Санадж прошептала, не открывая глаз:
– Спасибо, что ты не ушёл.
– Спасибо, что ты не сдалась, – так же тихо ответил Джон, опуская голову на сложенные руки.
В этот момент мир стал простым и честным: дом дышал, ночь хранила их покой, и где-то в самом сердце тумана таилась новая жизнь, о которой они пока не знали, но уже начинали верить. Всё, что осталось позади – растворилось в темноте, а впереди впервые за долгое время был не страх, а возможность проснуться вместе, в доме, где даже самые старые тени становятся родными.
Ночь в заброшенном доме тянулась длинно, как дорога без конца, но под утро её густота стала редеть: с первыми лучами рассвета сквозь оконное стекло пролился жидкий, слабый свет, и стены, которые ночью казались могильными, теперь дрожали от прикосновения солнца, словно кто-то осторожно тронул их изнутри застывшей ладонью. Санадж проснулась не сразу, а как будто вынырнула из глубокого слоя сна, где всё было перепутано: в одном видении мерцали детские лица, в другом – мрачная галерея, где она вновь была не гостьей, а пленницей. Боль в боку уже не казалась нестерпимой, тело отзывалось на движение ноющей тяжестью, но в этом было что-то живое, даже упрямое: она лежала с открытыми глазами, слушая, как дом дышит вместе с нею.