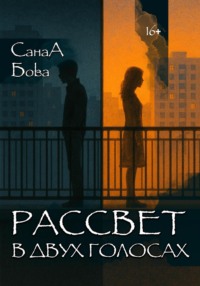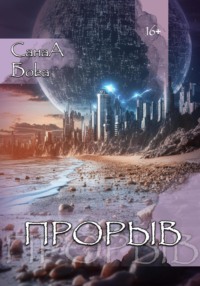Полная версия
Слёзы Индии
Время тянулось вязко, но это была уже не томительная тревога, а мягкая тяжесть благополучной усталости. За окном быстро темнело, и сад сливался с ночью, становился частью их укрытия. Пламя потрескивало всё тише, но было ясно, что эта ночь – не только прощение, но и первый шаг к новому пути, на котором страх перестаёт быть господином, а доверие становится законом жизни.
– Давай останемся здесь до утра, – шепнула Санадж, чувствуя, как в ней рождается тихое согласие с этим домом, с этой тишиной, с этим огнём.
– До утра и сколько понадобится, – согласился Джон, – пока ты не почувствуешь, что снова готова идти.
Они сидели так долго, пока огонь не угас, и в этом угасании не было ни грусти, ни страха, только ощущение, что произошло что-то важное, что-то такое, что останется с ними и дальше, даже когда за стенами этого дома вновь начнутся дороги, страхи, бегство и выборы. А пока ночь принадлежала им: дыхание, покой, тепло и возможность впервые за много лет уснуть не в одиночестве, а в родном, хоть и ненадолго, пространстве.
ГЛАВА 4. Стеклянный перевал_часть 3
Ночь медленно сгущалась, в окне проступала тёмно-синяя полоска предгорного неба, едва различимая за густыми кронами деревьев, сквозь которые ветер несло запахи влажной травы, тлеющих листьев и отдалённого, почти неуловимого жасмина. Огонь в печи ещё тлел, но уже не освещал всю комнату, оставляя углы погружёнными в полумрак. В этом мерцающем полусвете всё происходило будто в другом времени, где не нужно было никуда спешить, не нужно было прятаться, достаточно было просто дышать, чтобы остаться живым.
Санадж лежала, подложив руку под голову, и вслушивалась в тишину, наполненную не звуками, а дыханием дома: где-то щёлкала сухая доска, на чердаке шаркал зверёк, а из-под пола доносился глухой звук текущей воды. Боль в боку стихла, стала почти фоновой, но каждая смена положения отзывалась острым, обжигающим уколом, как напоминание о реальности, которую нельзя игнорировать. Она не жаловалась, не стонала, просто позволяла телу быть уязвимым, не скрывая слабости, которую так долго прятала от самой себя.
Джон сидел у печи, вырезая из кусочка старого полотна новую повязку. Его движения были аккуратными, почти ритуальными: он, казалось, сосредоточился не столько на самой работе, сколько на том, чтобы не нарушить ту зыбкую гармонию, которая установилась между ними за эту ночь. Он посмотрел на Санадж через тёплый полумрак, в его взгляде было сочувствие, осторожность, желание быть полезным, но не навязчивым.
– Нам нужно ещё раз осмотреть рану, – наконец сказал он, тихо, но твёрдо. – Повязка снова промокла. Если не обработать, будет хуже.
– Я знаю, – ответила Санадж, медленно приподнимаясь на локте. Голос у неё был хриплым от усталости, но в нём звучала готовность принять помощь. – Просто мне всегда было проще терпеть боль, чем показывать её другому.
– Я не хочу причинять тебе лишнюю боль, – сказал Джон, подходя ближе. – Но ты не одна. Здесь можно быть слабой, если нужно.
Он присел рядом, снова доставая из сумки кусок чистой ткани и тот же небольшой аптечный флакон. Теперь его движения были увереннее. С привычной осторожностью он размотал повязку – ткань успела пропитаться кровью, но сама рана выглядела уже чище.
Санадж стиснула зубы, но не отстранилась, не потому что пыталась терпеть, а потому что доверяла.
– Прости, – тихо сказал Джон, промывая рану водой. – Я бы хотел, чтобы этого не было.
– Не твоя вина, – выдохнула она, чувствуя, как боль проходит волной по всему телу. – Иногда мне кажется, что каждое ранение – это часть пути, который нельзя выбрать, а только пройти.
Его руки двигались так же бережно, но без прежней нерешительности, будто вместе с повязкой он накладывал уверенность, что её боль можно облегчить. Он наложил новую ткань и аккуратно закрепил узел.
– Всё, – сказал он наконец, выпрямляясь. – Так будет лучше. Ты можешь не бояться за ночь. Я рядом, если снова понадобится помощь.
Санадж устало кивнула, отпустила ковёр, и опустила голову на сложенное покрывало. Она чувствовала, что в этом доме, в этом полумраке, после очищения раны, боль уходит не только из тела, но и из самой ночи: впервые за долгое время стало возможно просто лечь и позволить себе не быть ни жертвой, ни бойцом, ни сильной, ни слабой, просто человеком, которому позволено страдать, позволено выздоравливать.
Они сидели рядом, в полутьме, где их дыхание звучало громче, чем все слова, и где тишина перестала быть угрозой, став новой формой доверия. За стенами дома росла ночь, медленно перетекая в тёплый покой, в котором боль становилась не наказанием, а признаком того, что тело всё ещё живое, всё ещё чувствующее, всё ещё имеющее право на заботу.
– Спасибо, – наконец прошептала Санадж, и это было не только про повязку, но и про всю ночь, про всё пережитое, про то, что теперь между ними было не только прошлое, но и будущее – пусть пока ещё не различимое, но уже обещанное.
Время в доме будто разливалось вокруг них: огонь окончательно погас, оставив только тёплое, неравномерное свечение углей, а за окном начинал накрапывать мелкий дождь, такой тихий, что его едва можно было различить среди дыхания ночи. Доски пола были теплее, чем казалось с первого взгляда. В каждой трещине жила память о том, как здесь когда-то проходили другие, боялись других страхов, лечили другие раны. Санадж тихо перевернулась на спину, глядя в потолок, где в полумраке угадывались волнистые линии, – то ли трещины, то ли старые надписи, стёртые временем, но всё ещё хранящие свои истории.
– Знаешь, – произнесла она, не глядя на Джона, – я всегда думала, что могу справиться со всем сама. Меня этому учили: не показывать боли, не плакать, не просить помощи. Только теперь понимаю: иногда просить – это не слабость, а доверие. Удивительно, что понять это смогла только здесь, после всего.
Джон смотрел на её профиль в полутьме, и в этом взгляде не было ничего от сочувствия, в котором скрывается жалость, только желание быть для неё тем, кто не предаст, не испугается её боли.
– Мне всегда казалось, что сильные люди не должны позволять себе слабость, – медленно сказал он. – Я долго думал, что, если показать страх, люди перестанут тебе верить. Но ведь настоящая вера – это когда остаёшься рядом, даже если видишь другого уязвимым.
– Смешно, – усмехнулась Санадж, поворачиваясь к нему лицом. – Мы столько времени старались держаться поодиночке, а оказалось, что именно вместе меньше боишься боли. Даже если она не уходит.
Джон мягко улыбнулся, опустил взгляд на её руку, которая лежала между ними на полу, и, поколебавшись, осторожно накрыл её своей ладонью. В этот жест он вложил всё, что не мог, или не хотел выразить словами: простое присутствие, тепло, тишину без упрёков и обещаний.
Они молчали какое-то время, только слушали, как дождь стал чуть сильнее, дробился по крыше, стекал по стенам. За пределами этой комнаты было другое время, другие люди, другие страхи, но сейчас им принадлежало только это – ночь, дом, тихое мерцание боли, которой уже не нужно было скрывать.
– Ты когда-нибудь думал, что рана – это не всегда что-то плохое? – спросила Санадж чуть тише, словно боялась потревожить покой.
– Да, – серьёзно ответил Джон. – Иногда рана – это память о том, что ты не камень. Что ты умеешь чувствовать, умеешь страдать, значит и жить. Только важно, чтобы боль не становилась тем, ради чего ты живёшь.
– Я не хочу жить только болью, – сказала она. – И не хочу, чтобы память была только об этом.
Они ещё долго сидели в полутьме, а потом Джон заговорил первым, и его голос звучал уже не как успокоение, а как тихий внутренний диалог, который становился возможен только рядом с тем, кто не требует объяснений.
– Я не знаю, что будет утром, – признался он. – Но если захочешь идти дальше, я пойду рядом. И если захочешь остаться – тоже.
Санадж слабо улыбнулась, глаза её увлажнились, но она не попыталась скрыть этого. Она почувствовала, что в эту ночь разрешила себе то, о чём всегда мечтала: не бояться быть слабой, не оправдываться за свои слёзы, не держать всё внутри.
– Я бы хотела остаться, – медленно произнесла она. – Хотя бы до того момента, пока боль не станет просто частью дороги, а не её смыслом.
Они обнялись, не как в кино, не для утешения, а как двое, кто знает цену теплу другого тела. В этом объятии не было ни слов, ни обещаний, только истина, что даже самая глубокая рана не страшна, если есть кто-то, кто согреет твою ночь и даст надежду, что утро придёт.
Время внутри заброшенного дома перестало подчиняться обычному течению: ночь шла медленно, то погружая комнату во тьму, то выхватывая лица из полумрака, где тени казались длиннее, а дыхание обоих громче и нужнее, чем весь уличный гул. За окном дождь то утихал, то вновь разгорался, словно сам был живым существом, внимательно прислушивающимся к каждому шороху под крышей, к каждому вздоху и треску дерева. Внутри же царила та редкая для беглецов тишина, которую не хочется нарушать даже шёпотом, разве что самым честным, самым доверительным.
Джон осторожно поправил повязку на боку Санадж, пальцами разгладил край ткани и задержался чуть дольше, чем того требовал уход за раной, не от неуверенности, а от желания дать понять: её боль – не только её. Он сел на пол рядом, положил ладони на колени, задумчиво смотрел в остатки углей, где ещё тлели маленькие островки света, казавшиеся огоньками надежды в их общем пути.
– Знаешь, – тихо сказал он, – я всегда думал, что чужая боль – это то, от чего нужно защищаться. Что если впустить её внутрь, не сможешь жить своей жизнью. Но сейчас понимаю: когда принимаешь чужую боль, она уже не кажется такой невыносимой, просто потому что она разделена.
Санадж молча кивнула, взглянула на его руку, чуть прикоснулась пальцами к его запястью. Этот жест был простым, но за ним стояли недели напряжения, дни молчания и час, в который они, наконец, научились быть не только выносливыми, но и мягкими друг к другу.
– Ты научил меня принимать помощь, – произнесла она, не сводя взгляда с его лица. – Не как милость, не как долг, а как возможность жить не только ради себя.
– А ты научила меня не бояться быть нужным, – признался Джон, – даже если для этого нужно сначала увидеть слабость другого и назвать её своим домом.
Они сидели в полутьме, в этом невидимом круге огня и тени, где всё, что происходило снаружи, теперь отступило так далеко, что даже самые страшные воспоминания теряли свою власть. За окном снова затрещала ветка, дождь усилился, по крыше пробежал стонущий поток, и этот звук был уже не угрозой, а частью их новой, общей жизни, пусть маленькой, пусть пока ещё осторожной.
– Я не хочу, чтобы боль была единственным, что мы запомним об этой ночи, – негромко сказала Санадж. – Хочу, чтобы было что-то ещё: свет, тишина, твоя рука, запах жасмина, даже этот дождь.
– Будет, – пообещал Джон. – Уже есть.
Они медленно легли на полу, плечом к плечу, укрывшись одним покрывалом, слушая, как ночь медленно переливается в их внутреннем мире – от страха к согласию, от боли к покою. В этом простом соприкосновении было больше смысла, чем в любых словах, больше прощения, чем в долгой исповеди, больше доверия, чем в самом искреннем обещании.
В тишине между ними осталась только жизнь: дыхание, в котором слышится будущий день, спокойствие, в котором рождалась новая сила, и согласие идти дальше, уже не в одиночку, уже не с тем прежним страхом, который так долго управлял каждым их выбором.
Уснув в этом доме, под звук дождя, они впервые за долгое время не боялись ни боли, ни себя, ни чужого взгляда: ночь принимала их такими, какие они есть, а впереди была дорога, не только через лес, но и внутрь себя, туда, где раны больше не были признаком слабости, а становились новой, обретённой свободой.
Внутри заброшенного дома ночь уже не казалась такой длинной, как раньше: время текло, но его ходы были почти неразличимы, потому что в этом пространстве всё подчинялось внутреннему ритму – дыханию, шороху одеяла, медленному угасанию света в углях. За окном дождь стал тише, иногда прерывался вовсе, и тогда становилось слышно, как в лесу трещат ветви или капля падает с крыши в глубокую глиняную лужу. Санадж лежала, подогнув под себя ноги, и, хотя усталость захватывала тело всё плотнее, сон не приходил: мозг не мог отключиться, потому что в этой странной, защищённой тишине на поверхность всплывали не столько боль и усталость, сколько те страхи, которые годами были припрятаны за суетой жизни.
Джон лежал рядом, но не спал: он чувствовал, как Санадж напрягается, как пальцы её непроизвольно сжимаются в кулак, как дыхание становится короче, когда она думает, что он не смотрит. Это была не та тревога, которая захватывает после боли или гонки, не страх за свою жизнь, а нечто более тонкое – страх, который нельзя побороть действием, который требует быть проговорённым, чтобы потерять власть.
– Ты не спишь? – негромко спросил он, повернувшись к ней.
– Нет, – ответила она после короткой паузы. – Я думала, что, когда мы наконец окажемся в безопасности, страх исчезнет сам собой. Но, оказывается, он просто меняет форму: теперь я боюсь не того, что нас найдут, а того, что мы останемся вот так, наедине со всем, что накопилось за эти дни.
– Это нормально, – сказал Джон, чуть касаясь её руки, чтобы не напугать и не отпугнуть. – Мне самому трудно. В городе было легче: там всё решает действие – беги, прячься, защищайся. А здесь, когда всё стихает, страх становится другим: он требует не силы, а честности.
Санадж на секунду закрыла глаза, глубоко вдохнула, а потом медленно села, прикрывшись одеялом до плеч, и повернулась к нему.
– Мне всегда казалось, что бояться – это стыдно, – призналась она. – Что страх – это признак слабости, которая может сделать тебя уязвимой, смешной, ненужной. И даже когда была маленькой, я училась первым делом прятать страх: под улыбкой, под делами, под чужой болью. А сегодня впервые хочу сказать вслух – я боюсь.
Джон присел рядом, сел так, чтобы быть на уровне её глаз.
– Я тоже боюсь, – признался он. – Боюсь не только за себя, а за тебя, за нас, за то, что может не случиться то, чего мы так долго ждали. Я не герой. Я просто человек, который не хочет больше терять. И страх для меня – это не просто чувство, а часть того, что делает меня живым.
Они замолчали, а потом Санадж, чуть помедлив, взяла его за руку, этот жест был не столько проявлением слабости, сколько знаком доверия, признанием: теперь страх больше не нужно прятать, его можно разделить, и в этом разделении появляется что-то новое – пусть хрупкое, но уже не такое безысходное.
– Знаешь, что самое трудное? – спросила она. – Перестать считать страх своим врагом. Научиться слушать его так же, как слушаешь своё тело: если болит – значит, есть причина. Если страшно – значит, есть что защищать.
Джон кивнул и чуть сжал её пальцы.
– Я долго думал, что мой страх – это слабость, – сказал он, – а теперь понимаю, что это просто часть меня, которой нужно дать место. Не для того чтобы она управляла, а чтобы не приходилось воевать со своим собственным сердцем.
Они сидели на полу, закутанные в старое покрывало, слушая, как за окнами ночной ветер кружит жасминовые лепестки. В доме пахло влажной глиной, холодной золой, теплом их тел. Этот новый, незнакомый страх – страх не погибнуть, а потерять доверие, возможность быть понятым, – впервые показался им не врагом, а возможностью быть по-настоящему близкими.
– Я не знаю, что будет утром, – тихо сказала Санадж, – но, наверное, впервые мне не хочется бежать от своих страхов. Если можно, я бы хотела разделить их с тобой.
– Можно, – ответил Джон. – Для этого мы здесь.
И ночь, наполненная разговорами и молчанием, стала первой ночью без вины – ночью, когда страх больше не прятали, а позволяли ему быть, и в этом находили новую опору друг в друге.
В доме было тепло от их дыхания и запаха хлеба: Джон, чтобы отвлечься от собственных мыслей, развёл небольшой огонь в жестяной миске, разогрел на нём кусочек старого хлеба, достал скромные остатки сыра и зелёных стеблей, которые захватил по пути. Они ели молча, осторожно, медленно, будто боялись потревожить тишину или разбудить старый сон, спрятавшийся в стенах этого дома. Еда здесь не была ритуалом или наслаждением, она была необходимостью – способом вернуть себе простые ощущения телесности, позволить телу не только страдать, но и насыщаться.
Когда они доели, Джон убрал крошки со старого ковра, вытер руки о штанину и сел напротив Санадж, скрестив ноги. Она тоже молчала, но её взгляд стал мягче, в нём больше не было той сдержанной тревоги, которую она так тщательно скрывала. Теперь оба знали: страх не ушёл, но перестал командовать каждым жестом, и в этом уже была их маленькая победа.
– В детстве я боялся темноты, – признался Джон, не скрывая улыбки, – и ещё громких голосов за стеной. Мне всегда казалось, что, если не двигаться, не дышать, можно стать незаметным, и тогда никто не причинит тебе боли. Со временем страх стал умнее: он начал прятаться не во внешнем, а внутри меня. Порой я иду по улице и понимаю, что боюсь не того, что кто-то нападёт, а того, что внутри меня когда-нибудь останется только этот страх.
Санадж слушала, подперев щеку ладонью, и на её лице отражалось сочувствие, не жалость, а согласие с его опытом.
– Мне тоже было страшно, – тихо ответила она. – Только я боялась другого: что не сумею понравиться, что меня не будут любить. Что мама однажды уйдёт, не сказав прощай, что никто не увидит во мне ничего, кроме ошибки. Когда росла, думала, что сила – это уметь смеяться громче, чем хочется плакать. Только теперь понимаю: сила в том, чтобы однажды перестать убегать от своей печали.
Они не смотрели друг на друга, когда говорили – это был разговор, который невозможно было бы выдержать в лоб, только бок о бок, только в общем свете, только разделяя ночь и хлеб, деля между собой всё, что когда-то разделяло их с остальным миром.
– А когда ты перестала бояться быть слабой? – спросил Джон.
Санадж задумалась и поджала губы.
– Не знаю. Может, только сейчас, – сказала она. – Может, только потому, что ты рядом. Я не верю, что страх уходит совсем, но верю, что можно научиться жить с ним не дрожа. И в этом есть какая-то особая честность: не прятаться от себя, не притворяться чужой.
Джон усмехнулся, склонив голову.
– Ты не чужая. Ты здесь, в этом доме, в этой ночи, и этого уже достаточно, чтобы не считать себя чужим нигде.
Они замолчали, и в этом молчании не было ни стыда, ни неловкости, ни тоски, только доверие, которое можно разделить лишь с тем, кто знает цену боли и цену долгой тишины. Ветер снова налетел, посыпал в окно несколько жасминовых лепестков, и этот запах был теперь не знаком опасности, а напоминанием: страх – всего лишь часть их пути, часть их общей, новой истории.
– Хочешь рассказать мне, чего боишься сейчас? – спросила Санадж после долгой паузы.
Джон посмотрел ей в глаза, впервые за ночь по-настоящему прямо.
– Боюсь, что однажды снова останусь один, – ответил он. – Боюсь проснуться и не найти рядом ни тебя, ни этого дома. И ещё… боюсь перестать верить, что можно быть нужным, даже если не умеешь спасать.
Санадж кивнула, медленно потянулась и коснулась его ладони, теперь уже без страха и неуверенности.
– Я не исчезну, – сказала она. – Даже если придётся идти дальше одной, я всегда буду помнить, что кто-то разделил со мной эту ночь и этот страх.
Они улыбнулись друг другу, не ради утешения, а потому что впервые в жизни позволили себе быть не героями, не жертвами, а просто двумя людьми, для которых страх стал не границей, а мостом.
В доме снова стало тихо: даже дождь за окном теперь звучал не как угроза, а как мерный аккомпанемент их разговору, будто всё вокруг замедлилось и дышало вместе с ними. Огонь почти погас, но его отблеск продолжал бегать по стенам, словно стараясь запомнить каждое слово, каждый жест, каждую улыбку, которые рождались в этой ночи. Джон сидел на полу, облокотившись на стену, Санадж устроилась рядом, положив голову ему на плечо, позволив себе ту слабость и нежность, которых так долго не позволяла себе даже наедине.
– Ты знаешь, – сказала она после долгой паузы, – мне всегда казалось, что, если проговорить страх, он станет меньше. Но сейчас понимаю: он не становится меньше, он становится более знакомым, менее острым. Это всё равно как идти по тёмной дороге и знать: ты не один, что бы ни случилось.
Джон погладил её по волосам, задержался на этом движении чуть дольше, чем обычно. Его голос был тёплым, немного уставшим, но в нём звучала искренняя благодарность за всё, что случилось этой ночью.
– Мне кажется, – произнёс он, – что страх вообще не враг. Он нужен, чтобы не забывать, зачем ты живёшь. Я часто думал, что избавлюсь от него, когда перестану быть ребёнком, когда научусь делать вид, что мне всё нипочём. А теперь… я бы не хотел жить совсем без страха. Пусть он будет, но не как хозяин, а как память о том, что всё, что у нас есть, может исчезнуть.
– Ты умеешь говорить просто о сложном, – усмехнулась Санадж. – Мне бы так.
– Ты умеешь слушать, – ответил Джон, – а это важнее, чем говорить. Иногда достаточно просто быть рядом, чтобы другому стало легче.
Они посидели так ещё некоторое время, слушая друг друга, и вдруг обнаружили, что усталость уступила место странному облегчению, словно весь груз нерассказанных историй, всего того, что обычно прячешь за улыбкой, теперь стал общим, лёгким, и больше не тянул их вниз. Санадж подняла голову, посмотрела на Джона внимательно, долго, не спеша отводить взгляд.
– Я не знаю, как долго у нас будет этот дом, эта ночь, этот покой, – сказала она, – но, если страх – это то, что делает нас честнее, пусть он останется. Только теперь я знаю, что его не обязательно нести одной.
Джон чуть улыбнулся, обнял её крепче, позволив себе то, что всегда казалось непозволительным просто быть, без нужды что-то менять или объяснять.
– Я буду рядом, – тихо пообещал он. – Даже если придётся снова идти через тьму. Я не обещаю не бояться, но обещаю не бросать.
Санадж кивнула, закрыла глаза, и в этом молчании, полном принятия и согласия, ночь наконец обрела свой новый смысл: они не стали сильнее, не победили страх, но научились быть с ним вместе, и друг с другом, без суеты, без лжи, без лишних слов. За окном ночь уже уходила, по склонам разворачивался первый бледный свет утра, но в этом доме, в этой тишине, ещё оставалось достаточно времени, чтобы просто дышать, слушать и помнить: страх – не конец, а начало доверия.
Когда ночь уже почти закончилась, а дом затаился в тишине, Санадж впервые позволила себе заснуть по-настоящему, не осторожно, не тревожно, а с тяжёлой, усталой уверенностью в том, что рядом с ней никто не сделает зла. Её дыхание стало ровным, движения медленными, плечи расслабились, и сознание медленно отпустило усталое тело, оставив его в покое, которому она уже почти разучилась доверять. Сначала были просто цвета: густые, неразличимые, клубящиеся за закрытыми веками, потом запах – смесь сырого жасмина и стёртой школьной резинки, той, которую она когда-то грызла во время уроков, когда думала, что страх можно стереть, как ошибку на листе.
В этом сне пространство не подчинялось обычной логике: пол был слишком мягким, стены дышали и отодвигались, когда хотелось пройти вперёд, а окно было открыто на детский двор, где на старых качелях раскачивалась тонкая фигурка в светлом платье. Она сидела спиной к Санадж, и каждый раз, когда качели подпрыгивали выше, в воздухе звенело нечто хрупкое, как стеклянная слеза, и на груди у девочки в солнечном сплетении отблескивал тот самый кулон.
Санадж не сразу поняла, что это сон, а когда поняла – не захотела просыпаться: здесь не было боли, только острая, почти приятная тревога, как бывает в те минуты, когда готовишься услышать давно забытый голос. Она подошла ближе, но трава под ногами оказалась мягкой и вязкой, словно вся земля была покрыта ковром из лепестков жасмина, – её ступни тонули в этом ковре, но не утопали, а только впитывали прохладу и лёгкий, пьянящий аромат.
– Почему ты смотришь на меня? – вдруг спросила девочка, не оборачиваясь, и голос её был знакомым до боли, как если бы Санадж услышала собственную речь, записанную на плёнку много лет назад.
– Я… я хотела спросить, кто ты, – ответила Санадж, удивляясь своей смелости. – Почему ты носишь мой кулон? Или это я твой кулон ношу?
Девочка раскачалась чуть выше, потом медленно остановилась, соскользнула с качелей и повернулась. Лицо у неё было неясным, словно нарисованным углём на запотевшем стекле: в нём были и черты самой Санадж – тонкая линия губ, тёмные ресницы, чуть сбитый нос, и что-то от других детей, которых она знала когда-то, – дворовых подруг, соседских мальчишек, собственной матери в детстве. Но самое главное было в глазах: они смотрели не на женщину, а в самую суть её страха, туда, где боль и надежда всегда идут рядом.