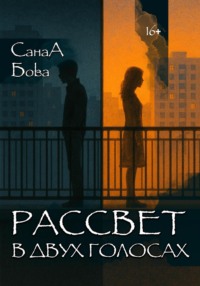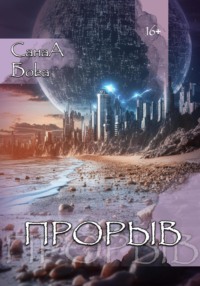Полная версия
Слёзы Индии
– Думаешь, стоит бояться? – спросила Ритика, когда они остались вдвоём за столом.
– Я думаю, что бояться уже поздно, – Санадж медленно улыбнулась. – Остаётся только делать то, что умеешь: жить, помнить, не притворяться чужой.
Вечером, когда галерея опустела, Санадж вышла одна и медленно шла по двору, не торопясь. На плечах чувствовался взгляд, может быть, Джона, может быть, кого-то из прохожих. Город был полон тёплого ветра и ожидания: будто все ждали, когда кто-то скажет что-то такое, что изменит не только день, но и всю жизнь.
Город как будто чувствовал приближение развязки. Время двигалось медленно, дождь то затихал, то набирал силу, полосами стекал по стенам, забивался в щели тротуаров, превращая их в мутные ручьи. Всё было наполнено усталой тишиной: только где-то за окном раздавался крик уличного торговца, да собаки, преследуя друг друга, разбегались по дворам, оставляя следы на песке. Жизнь шла обычным чередом, но каждый, кто был рядом с Санадж, будто бы чувствовал – обычность эта слишком натянута, чтобы быть настоящей.
В галерее на этот раз пахло особенно резко: смешались духи с чужих пальто, горячий чай, старый лак, мокрая бумага, едва уловимый аромат дешёвого мыла. Ритика задержалась у стойки, пытаясь привести в порядок папки с корреспонденцией, на ней была полосатая рубашка, джинсы, длинный серый кардиган, волосы она собрала в высокий хвост, и выглядела ещё уставшей, чем обычно.
– Снова пришли? – спросила она, не поднимая глаз.
– Да, – Санадж кивнула, – те же, у рынка. Сегодня один был прямо у дверей, смотрел мне в спину, пока я шла от автобусной остановки.
– Ты боишься?
– Уже нет, – тихо сказала Санадж, убирая в сумку очередную вырезку из газеты. – Я просто хочу, чтобы это закончилось.
В зале висел мягкий свет, художники развешивали новые работы, спорили вполголоса, кто-то смеялся, кто-то ругался, кто-то рукоплескал: “Вот это – настоящее!” Обычная жизнь галереи, обычные страхи, обычные заботы, которые не отпускали даже в самые светлые минуты.
В этот день пришло письмо, без обратного адреса, бумага плотная, почти картон, на ней та же фраза, которая стала уже частью судьбы: If love is a crime… Снизу чужой почерк, сдержанный, строгий: “Сегодня вечером. Будь готова”.
Санадж долго смотрела на эти слова, обводя пальцем буквы, потом, не сказав ни слова, убрала письмо в карман.
Джон встретил её у выхода. Было прохладно, он накинул тёмно-синюю куртку, выглядел настороженным.
– Всё в порядке?
– Письмо, – сказала она. – Они хотят, чтобы я была готова.
– Готова к чему?
– Не знаю, – она выдохнула. – Но я уже не отступлю.
– Я пойду с тобой, – сказал Джон. – Сегодня не тот день, чтобы оставаться одной.
Они шли по вечернему Мумбаи, где всё было чуть тише, чем обычно. Мимо проезжали рикши, пахло специями, дождём, в переулках загорались жёлтые фонари. Казалось, что за каждым углом стоит чей-то взгляд, кто-то отмечает их шаги, кто-то ждёт, когда они свернут не туда.
Дома было темно. Мать, укрывшись шерстяным платком, сидела у окна, глядела на дождь, сквозь тёмное стекло угадывала то ли своё отражение, то ли чью-то давнюю тень. Когда вошла Санадж, она не сразу повернула голову.
– Ты сегодня поздно, – сказала она тихо.
– Было много работы.
– Или много вопросов?
Санадж не отвечала, просто опустилась рядом и положила голову на мамино плечо.
– Я боюсь не за себя, – прошептала мать, – я боюсь, что ты возьмёшь чужую боль, не умея её нести.
– Ты всю жизнь несла её молча. Я не могу молчать. Я не хочу, чтобы моя память была только моей.
– Ты сильнее меня, – выдохнула мать, погладив её по волосам. – Слишком долго я боялась сказать правду.
– Я ничего не скажу, если это разрушит тебя.
– Скажи всё. Лучше пусть знают, чем думают, будто мы и правда были преступницами.
Позже Санадж вышла в кухню, надела старый свитер и вскипятила воду. Джон стоял у плиты, ждал, когда она заговорит.
– Я готова, – сказала она. – Я не знаю, что они сделают, но я хочу говорить сама. Я не хочу быть символом молчания.
– Ты никогда не была, – сказал Джон, – и это их пугает больше всего.
В этот вечер она написала письмо сама, короткое, честное, без лишних слов: “Если любовь – преступление, пусть это будет моё последнее преступление. Я не откажусь от своей памяти”.
Письмо она оставила на столе, рядом с кулоном. Поздно ночью, когда город был уже почти пуст, когда дождь стал редким, когда шаги в подъезде затихли, Санадж смотрела в окно, и впервые за долгое время почувствовала не страх, а медленный, тяжёлый, но настоящий покой.
Утро вышло светлым, вопреки предчувствиям. После ночного дождя все дороги были влажными и блестели на солнце, город будто омывался от затяжной усталости последних дней. Но даже в этом свете всё выглядело чуть старше, чем было: простыни на балконах провисали тяжелее, чем обычно, платья на верёвках сохли неохотно, обувь у дверей выстраивалась по ранжиру – старое, новое, совсем детское и почти забытое. На улицах мелькали знакомые лица – кто-то нёс корзины с манго, кто-то переставлял ящики с картошкой, кто-то останавливался у кофейни только чтобы поймать чей-то взгляд, не осмеливаясь подойти ближе.
В галерее день начался с тревоги. В фойе пахло кипятком и вчерашним чаем, сквозняк гулял по коридору, разбрасывал бумажные салфетки по полу. За стойкой нервничала секретарь, оглядываясь на улицу: кто-то задержался у входа, как будто ждал момента, чтобы войти. В помещении было прохладно, даже сыровато – утром на стенах ещё проступал конденсат. Окна были открыты настежь, и вместе с воздухом в зал проникал уличный шум: сигналы мотоциклов, смех детей, громкие голоса женщин, спорящих о цене риса.
Санадж пришла, как всегда, раньше остальных. Она выбрала строгую белую рубашку, длинную синюю юбку, зачесала волосы назад, чтобы не мешали. Кулон был спрятан под воротник, но о его присутствии она знала каждую секунду, теперь он был не столько напоминанием, сколько амулетом. На столе горка писем, среди них то самое, написанное её рукой ночью. Она не открывала его, не перечитывала: внутри осталась последняя тревога, та, которую нельзя было ни высказать, ни спрятать.
Джон появился без звонка. Он был в светлой футболке, джинсовой рубашке, тёмных брюках – одежда чуть мятая, обувь, как всегда, мокрая после ночи. На лице у него была усталость, но уже не тревога, а скорее покой того, кто решил идти до конца. Он взял чашку чая, сел напротив.
– Ну что, готова?
– Готова, – ответила она, медленно улыбаясь. – Уже не страшно. Только грустно.
– Это будет непросто.
– Я не ищу простого. Я просто не хочу больше скрываться.
В этот день галерея наполнилась людьми, как будто кто-то распустил слух, пришли коллеги из других галерей, несколько журналистов, художники, кто-то из соседей по району. В воздухе витала настороженность, но никто не говорил о главном. Все были в светлой одежде, женщины в простых сари, мужчины в выцветших рубашках и джинсах. Некоторые пришли парами, кто-то в одиночестве, кто-то с детьми, у всех на лицах была разная степень усталости, но никто не спешил уходить.
В конце дня появился человек, которого ждали: высокий, сдержанный, в чёрной рубашке и простых светлых брюках, на руке – браслет из красных нитей, взгляд спокойный, но отрешённый. Он не назвал себя, но все поняли, кто это. Он остановился у входа, долго смотрел в зал, потом подошёл к столу, где сидела Санадж.
– Вы не боитесь? – спросил он, не глядя ей в глаза.
– Нет, – сказала она просто. – Я слишком долго жила во власти страха, чтобы бояться ещё.
– Это письмо ваше? – он кивнул на сложенный листок на столе.
– Моё.
– Почему вы не хотите просто забыть?
– Потому что если любовь – преступление, я хочу быть виновной до конца. Это мой выбор.
Он молчал долго, смотрел на людей вокруг, на письма, на кулон в её руке.
– Иногда прошлое – не преступление, а просто тень, – сказал он наконец.
– Но если не назвать эту тень своим именем, она будет всегда управлять всеми нами.
Он кивнул, шагнул к двери и ушёл, не оглядываясь.
Вечер снова закутал город в тёплый, тяжелый сумрак. В квартире Санадж мать жарила на сковородке лепёшки, в воздухе стоял густой аромат масла, чеснока и зелени. На ней было старое жёлтое сари, волосы собраны в пучок, на запястье тонкая красная нить, она готовила ужин так, будто в этом простом ритуале пряталась вся защита от тревоги. Джон молча помогал ей накрыть на стол, перекладывал ложки, проверял, чтобы всё было по местам.
– Ты сделала то, что хотела? – спросила мать, когда они остались вдвоём.
– Я не знаю. Я просто больше не хочу быть только тенью, – ответила Санадж, обнимая мать за плечи.
– Ты стала сильнее, чем я думала.
– Я не сильнее. Я просто перестала верить, что страх – это то, что нас спасает.
Джон остался у них ночевать. Поздно вечером, когда город почти стих, когда капли воды медленно стекали по балкону, когда всё стало обычным и простым, Санадж сидела у окна с письмом в руках, смотрела, как засыпает дом, и думала, что завтра – это всегда шаг в неизвестность. Но если любовь – преступление, то жить с этим куда легче, чем всю жизнь молчать.
ГЛАВА 4. Стеклянный перевал_часть 1
Мумбаи в сезон грозы всегда превращался в город ожиданий, не тревожных, не предвкушающих, а вязких, как густой чай в стеклянном стакане. Воздух становился плотным, будто набирался смысла и веса, как вода, которая вот-вот переполнит берег. В тот день Санадж чувствовала этот груз даже сильнее обычного: её тянуло к земле, её мысли вязли в ладонях, а глаза всё чаще останавливались на пустяках – царапине на перилах, мусоре у входа, мокром листе, прилипшем к ботинку. Она давно научилась различать оттенки тревоги по запаху: у дождя был свой, острый, ржавый, с примесью глины и старой травы, но сегодня через это пробивалась нотка жасмина, нежная, как память, и такая же коварная.
В галерее всё ещё висела роса на стёклах, не исчезавшая даже к обеду, стекло хранило на себе отпечатки чужих пальцев, разводы ладоней, следы дождя. Рабочий день начинался с ритуалов: сначала уборка, потом чай, после короткие разговоры о выставках, новых художниках, о том, как с утра кто-то видел «чёрных дхоти» у рынка. Каждый этот рассказ был произнесён полушёпотом, будто речь шла не о людях, а о погоде, – опасности, которую невозможно прогнать словами.
Сегодня у Санадж было ощущение, будто мир вокруг стал резче, хотя всё было как обычно: те же яркие гирлянды на углу, тот же бойкий мальчик у лавки с газетами, тот же запах масляного теста из кондитерской, но за этим скрывалась неуловимая перемена. Она почувствовала её, когда остановилась на мостовой и унюхала пряную свежесть, не просто пыль и вода, а настоящий жасмин, только что сорванный, как будто кто-то раздавил цветок прямо под её подошвой. Её это озадачило: в этот сезон жасмин цвёл только в садах за городом, в предгорьях, и почти никогда не попадал сюда. Но сегодня аромат был резкий, тревожный, и впивался в память, как нож в мягкую ткань.
Она задержалась у окна галереи, задержала дыхание, а потом вдруг заметила в отражении знакомое движение – кто-то в чёрном пересёк улицу, скользнул по асфальту, даже не взглянув вверх. В этот миг всё внутри сжалось, словно от предчувствия грозы: не страха, не опасности, а чего-то необратимого, на что нельзя повлиять.
Ритика подошла к ней и тихо спросила:
– Ты сегодня сама не своя. Опять что-то случилось?
Санадж слабо улыбнулась, глядя в мутное стекло.
– Нет. Просто город другой. Как будто ждёт чего-то, но не говорит вслух.
– Всегда так перед грозой, – сказала Ритика, расправляя на плече сумку. – Люди становятся тише. Даже собаки меньше лают.
– Я думала, это только у меня в голове, – ответила Санадж, медленно поворачиваясь к ней. – Но ты права. Даже свет другой.
Они вышли на крыльцо вместе, чтобы проводить взглядом рабочего, который уносил старый ящик. Дождь ещё не начинался, но небо было наэлектризовано, и все ожидали первого удара. В переулке кто-то громко спорил, а потом резко замолчал, так бывает, когда разговор заканчивается не по обоюдному согласию, а потому что кто-то новый подошёл слишком близко.
– Ты сегодня останешься до вечера? – спросила Ритика, будто между делом, но в голосе её слышалось то напряжение, которое приходит, когда есть о чём тревожиться, но некому об этом сказать.
– Да, – ответила Санадж, –у меня работа и… – она замялась, – письма опять.
– Что на этот раз?
– Всё то же: странные строки, пожелания не лезть не в своё дело, намёки на прошлое, на долг, на то, что я кому-то что-то должна.
Ритика помолчала, уставилась в асфальт, а потом негромко сказала:
– Ты ведь понимаешь, что эти люди не пишут просто так?
– Я знаю. Но мне кажется, что если я не буду читать, всё равно ничего не изменится.
В этот момент подул ветер, и по крыльцу прошёл холод, принеся с собой новый всплеск жасмина, уже смешанный с сыростью и чем-то металлическим.
– Ты чувствуешь этот запах?
Ритика вздохнула:
– Да. Всегда перед ливнем так пахнет, будто город вспоминает что-то своё.
Санадж кивнула, но знала: сегодня жасмин – это не только запах, но и предупреждение. Она вспомнила старую сказку, которую бабушка рассказывала ей в детстве: о том, как жасмин врывается в город перед бедой, смешиваясь с кровью, чтобы никто не смог забыть о том, что случилось. В этот момент всё в ней насторожилось: мир стал прозрачнее, острее, и даже обычные шаги по двору отзывались эхом под кожей.
И всё-таки день продолжался. Гроза собиралась где-то на окраинах, воздух был тяжёлым и тянулся как мокрая ткань. Вся галерея замедлилась, словно готовясь к чему-то, что никто не мог назвать, но все чувствовали кожей. Аромат жасмина не исчезал, и Санадж всё чаще ловила себя на мысли, что этот день – не случайность, а чей-то выбор, чей-то кивок в её сторону.
В тот день, когда часы в галерее двигались слишком медленно, будто кто-то нарочно удлинял каждую минуту, Санадж ощущала, как привычные вещи становятся чужими: телефон, который молчал уже третий час; ручка, оставляющая чернильные разводы на полях записей; чашка чая, в которой крутился мокрый чайный лист, словно подсказывая ей неотвратимость перемен. За окнами сменялись потоки людей: уличный торговец в выцветшей майке раскладывал по тротуару коробки с манго и грушами, мимо него проходила женщина в оранжевом сари с корзиной на голове, дети, крича, гонялись за лужами. Но через этот городской шум проступало нечто иное – тягучая, неотступная тишина, в которую иногда врезался звон мотоцикла или чужой громкий голос, но всё это не нарушало общего ожидания.
Санадж сидела за столом, пытаясь разобраться в очередной пачке писем. Буквы сливались, слова казались чужими, хотя она знала, что адресованы именно ей: одни просили не ворошить прошлое, другие требовали ответить за чью-то вину, третьи просто напоминали, что в этом городе ничто не забывается до конца. Её взгляд зацепился за короткую записку, написанную неровным почерком: «Запах жасмина – запах крови. Помни». Она невольно поднесла листок к носу и почти физически почувствовала, как в ней откликается что-то очень старое, детское, как будто слова попали не в сознание, а сразу в тело.
На пороге показался Джон, тихий и растерянный, будто вынырнувший из чужой жизни. Его лицо было усталым, под глазами залегли тени недосыпа, волосы растрёпаны, одежда – обычная: хлопковая рубашка с закатанными рукавами, брюки цвета пыли, старая сумка через плечо. Он прошёл в зал и опустился рядом с Санадж.
– Ты сегодня как будто не здесь, – сказал он негромко, глядя ей прямо в глаза.
– Я везде и нигде, – ответила она, чуть улыбнувшись. – Как будто живу не в этом дне, а в его отражении.
– Погода такая, – пожал плечами Джон. – Мне кажется, весь город жмётся к земле, как собака перед грозой. Я прошёл по двору, люди смотрят исподлобья, будто чего-то ждут, но не говорят. Даже мальчишки на углу вдруг притихли.
– Может, это только нам кажется? – попыталась пошутить Санадж, но смех получился натянутым.
– Нет, не кажется. Сегодня я видел мужчину у аптеки в чёрной дхоти, с золотым кольцом на пальце. Он смотрел на меня так, будто хотел узнать, что я выберу: сказать правду или отвернуться. Я не выдержал, прошёл мимо, но внутри всё сжалось.
Санадж посмотрела на Джона и впервые заметила, как глубоко в нём сидит страх, не тот, который делает людей трусливыми, а приучающий их быть осторожными в каждом слове, в каждом движении, в каждом взгляде. Она вдруг поняла, что все вокруг, все эти взрослые, дети, даже старики на лавочке, живут как люди, которым однажды велели молчать, и с тех пор они говорят только намёками.
В этот момент ветер усилился, по галерее прошёл резкий, ледяной поток воздуха, и с улицы вновь донёсся запах жасмина, на этот раз вперемешку с сыростью и слабым металлическим привкусом крови, который может почувствовать только тот, кто однажды её нюхал. Санадж невольно прижала кулон к груди и посмотрела на улицу: у обочины стояли двое, почти сливаясь с фоном, но она узнала в их фигурах ту самую медленную опасность, которой так боялась с детства.
– Хочешь, я останусь до вечера? – тихо спросил Джон, не делая лишних движений. – Просто на всякий случай.
– Хочу, – выдохнула Санадж. – Сегодня я не хочу возвращаться одна.
Они замолчали. Ритика, проходя мимо, на секунду задержалась, взглянула на них и, будто почувствовав, что сейчас лучше не спрашивать лишнего, ушла в дальний коридор.
– Ты помнишь, как в детстве всё казалось проще? – вдруг сказала Санадж, не поднимая глаз. – Бабушка всегда говорила: если дождь долго не начинается, значит, кто-то из живых всё ещё не признался в своей вине.
– Может, мы потому и ждём грозу, что сами не можем назвать, чего боимся? – ответил Джон.
– Мы боимся прошлого. Не людей, не событий, а той части себя, которая осталась там, где мы однажды отвернулись.
– Иногда мне кажется, – признался Джон, – что вся моя жизнь – это попытка спрятаться. Но чем больше я прячусь, тем заметнее становлюсь.
– Это потому что в этом городе невозможно исчезнуть по-настоящему. Здесь даже тени оставляют следы.
Далеко за стенами галереи загремел гром, и первый короткий дождь забарабанил по железной крыше. В помещении стало темнее, и лица у всех стали напряжённее. Свет лампы резал пространство, и всё вокруг показалось Санадж картиной, написанной не с натуры, а из воспоминания, где каждая деталь выточена не кистью, а чужим взглядом.
В этот миг она подумала, что именно так начинается всё самое важное: не с поступка, не с катастрофы, а с едва заметного смещения ритма, когда город притихает, запахи становятся гуще, а люди начинают разговаривать не друг с другом, а с той частью мира, которую не могут назвать вслух.
Дождь усиливался, он начинался с мягкого постукивания по козырьку у крыльца, затем перерос в тяжёлый, вязкий поток, который превращал двор в зыбкую отражающую плоскость, где уже невозможно было отличить небо от земли. Стёкла галереи покрывались тонкой пеленой, за которой город выглядел призраком, а силуэты прохожих казались тенями другого времени. Свет уличных фонарей дробился на мокром асфальте, и каждый новый шаг становился почти ритуалом: выйти из тёплого, чуть затхлого пространства и шагнуть туда, где вся память – это только запахи, влажные прикосновения и отголоски старых голосов.
В зале осталась только Санадж, она решила не уходить, когда рабочие начали расходиться, один за другим, бросая короткие взгляды на окна, за которыми уже ничего нельзя было рассмотреть. В этот вечер у всех была причина спешить домой: кто-то боялся ливня, кто-то темноты, кто-то своих мыслей, которые, как известно, ночью особенно громко шепчут из углов. Джон задержался последним, его шаги были тихими, он перебирал в руках ключи, проверял закрыты ли все двери, выключен ли свет, убраны ли с виду все улики жизни, которой они так старались не делиться с улицей.
– Мы сможем выстоять этот день? – спросила Санадж, глядя на него с такой усталостью, что голос её казался почти прозрачным.
– Мы уже выстояли, – ответил он. – Всё, что происходит дальше, – это не наша вина, а их страх.
Они вместе вышли в холл, где пахло мокрой бумагой и старыми гвоздями, и остановились у двери, слушая, как на крыльце хлопает ветром неплотно закрытая рама. Дождь здесь казался громче, капли били по железу и стеклу, внутри всё вибрировало от этого глухого, низкого звука. Санадж опустила руку в карман и нашла маленькую открытку, на ней был лишь один штрих, похожий на рану или ветку. Она провела по нему пальцем, не спрашивая, не для кого он был, а для чего.
В этот момент уличный свет мигнул, и вдали, за изгибом дороги, показалась фигура в чёрном, не спеша, никуда не торопясь, человек пересёк дорогу и остановился у стены напротив. Он не смотрел на галерею, но его присутствие чувствовалось так остро, будто это был запах, проникший сквозь стены. Джон коротко кивнул и отступил в тень, позволяя Санадж решать, выходить ли первой, идти ли вдвоём, звать ли кого-то ещё.
– Пойдём, – сказала она наконец. – Я не хочу, чтобы ночь застала нас в четырёх стенах.
Они вышли на улицу, и тут же на лица им опустился влажный жар ливня, смешанный с тонким, почти приторным запахом жасмина, который словно бы усиливался с каждым шагом. Город сливался с этим запахом, с этим дождём, становился одновременно чужим и до боли родным, как детство, которое не возвращается, но никогда не отпускает до конца.
– Почему жасмин пахнет сильнее в такие дни? – спросил Джон, пряча волосы под капюшон.
– Потому что в воздухе много памяти, – улыбнулась Санадж. – В детстве мне казалось, что жасмин цветёт для того, чтобы напоминать нам обо всём, что мы хотим забыть.
Они двинулись вдоль промокших стен, под шумом воды, вдоль заросших переулков, где кошки юрко прятались под машинами, и в каждом окне отражался тот же свет, который был у них за спиной. В этот вечер всё выглядело иначе: обычные магазины, уличные лотки с фруктами, окна с облупленными рамами – всё хранило на себе неотмываемый отпечаток чьего-то взгляда. Город стал лабиринтом запахов, следов, голосов, которые не умели кричать, но умели ждать, когда кто-то оступится.
В какой-то момент они остановились под навесом, слушая, как по жестяной крыше скатываются капли. Оба молчали, каждый думал о своём, но молчание не было тяжёлым, оно было таким, какое бывает между двумя людьми, которые слишком хорошо знают друг друга, чтобы объяснять простые вещи словами. Джон провёл рукой по волосам, выдохнул, и посмотрел на Санадж долгим, внимательным взглядом, не требующим ответа.
– Всё будет по-другому, когда гроза закончится? – спросил он.
– Нет, – мягко ответила она. – Но нам станет легче дышать.
Они снова двинулись вперёд, и вместе с ними двигался город: медленно, осторожно, будто бы в каждом дворе, в каждом переулке, за каждым поворотом кто-то повторял их маршрут. Запах жасмина стал ещё гуще, теперь он смешивался с сыростью, с металлом, с неразличимой тревогой, и Санадж поняла: наступает ночь, в которой они уже не смогут притвориться просто прохожими, потому что город готовился принять их по-своему.
Когда они дошли до перекрёстка, где был яркий свет, шум и суета, Санадж на миг остановилась, задержала дыхание и оглянулась, за её спиной, в полосе света, всё ещё стояла та самая фигура, чёрная, размытая, почти растворённая в воздухе. Она знала, что в этот вечер линии стали слишком тонкими, чтобы отличить свою жизнь от чужой, и что следующий шаг изменит не только их маршрут, но и всё, что должно было случиться дальше.
Когда они свернули в узкий переулок, воздух стал плотнее – ливень почти закончился, но за лужами всё ещё тянулся тонкий пар, отражая неоновые пятна и размытую зелень на стенах. В этот момент город будто сжался, сдвинулся ближе к коже, стал таким близким и ощутимым, что каждый шаг отзывался в пятках усталостью. Вода стекала по воротнику, под ногами скользили камни, где-то вдалеке всё ещё звучал тихий гул электрички, но тут, в этом заброшенном междомовом пространстве, казалось, что время остановилось.
Джон шёл чуть впереди, иногда оборачивался, проверяя, не отстала ли Санадж. Она молча держалась за сумку, в которую на ходу бросила блокнот и мокрую открытку, и старалась не наступать на мусор. Переулок был тесен, выстлан трещинами, в стенах сидели тени, кто-то недавно выбросил коробку с остатками овощей – запах гнилого сена смешивался со свежей зеленью и той самой неумолимой сладостью жасмина. Всё вокруг становилось гуще, чем обычно, даже голоса людей на улице звучали так, будто им приходилось продираться сквозь густую воду.
– Почти добрались, – сказал Джон, обернувшись. – Перевал за этим кварталом, а потом на запад вдоль ручья.
– Ты когда-нибудь замечал, что такие вечера словно притягивают беду? – негромко спросила Санадж.