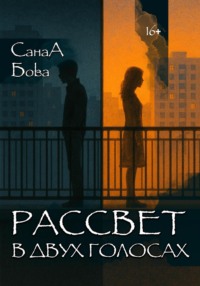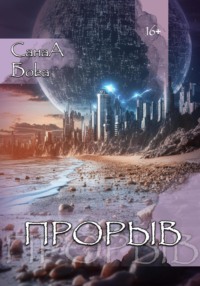Полная версия
Слёзы Индии

СанаА Бова
Слёзы Индии
ГЛАВА 1: Ночь, где никто не танцевал
Сквозь мутные стёкла автомобиля Санадж всматривалась в смену улиц: обветшалые особняки с выцветшими ставнями, башни новых отелей, ряды продавцов на обочинах, пластик, песок, фрукты, усталые, живые лица, вглядывающиеся ей навстречу, будто в ней угадывалось что-то такое, что давно ушло из их собственной жизни.Мумбаи встречал Санадж влажным, тяжёлым воздухом, пропитанным пылью, специями и чем-то ещё, ускользающим, как запах чужой жизни, той самой, которую ещё вчера она могла называть своей, а теперь уже не рисковала. Город дышал медленно, устало, будто знал цену возвращения – здесь не бывает лёгких встреч, не бывает случайных маршрутов, и даже дорожные пробки казались здесь не помехой, а ритуалом.
Ритика встретила её у выхода из зоны прилёта – аккуратная, нервная, слишком молодая, чтобы носить на плечах чужие судьбы, и слишком упрямая, чтобы согласиться с этим. Она держала в руках табличку с именем, а когда увидела Санадж, растерялась, будто боялась не узнать её, и только тогда, когда Санадж улыбнулась первой, выдохнула и шагнула вперёд.
– Добро пожаловать, – сказала она тихо, не по-английски, а на смеси хинди и старого бомбейского сленга, сразу вернувшего Санадж в детство, в шумные дворы, где всё было проще и острее, где ещё не пахло предательством.
В машине Ритика говорила быстро, немного сбивчиво, перескакивая с темы на тему: про галерею, которая готовила новую экспозицию, про вечеринку в клубе “Rasa Svara”, про журналистов и меценатов, про то, как сложно сейчас быть женщиной в искусстве, как нужно держать лицо и не доверять никому.
Санадж слушала вполуха, отвечала рассеянно, позволяя словам проходить сквозь неё, будто сквозь марлю, весь этот шум был ей знаком, даже привычен, но теперь он казался чем-то искусственным, как костюм, который надеваешь только ради того, чтобы не замёрзнуть в чужом зале ожидания.
Снаружи мелькали вывески, солнечный свет ломался на лобовом стекле, в салоне пахло сандалом, потом и дешёвыми духами.
Когда они наконец въехали в город, уже начинало темнеть, сумерки в Мумбаи всегда приходят внезапно, затягивают улицы дымкой, размывают лица, превращая каждый поворот в шанс потеряться и быть найденной заново. Ритика нервно проверяла телефон, что-то писала, и неуверенно улыбалась.
– Всё будет хорошо, – сказала она вдруг, словно пытаясь убедить себя саму, – главное – не задерживаться, не выходить одной, и, если что, звоните сразу мне. Вы ведь помните номер?
Санадж кивнула. Она ничего не забывала – ни номеров, ни запахов, ни людей, которые когда-то делали ей больно.
Гостиница встретила их наигранной роскошью – лобби с белым мрамором, золотистые прожилки в стенах, огромные букеты лилий в вазах, вежливые, почти безликие лица персонала.
Санадж поднялась в свой номер, тихо, почти незаметно, как будто боялась лишний раз потревожить воздух. Там всё было стерильно, красиво, чисто – кровать с белоснежным бельём, чайник, две чашки, конверт с приглашением на приём. Она бросила сумку на кресло, уставилась в окно, где начинал гудеть вечерний город, и почувствовала, как что-то тянет её обратно, в ту жизнь, где она была не гостьей, а своей.
Вечер наступил слишком быстро. Оставив позади усталость дороги и первую дрожь от встречи с прошлым, Санадж переоделась – выбрала простое чёрное платье, легкий платок, затянула волосы в узел. Она не хотела выделяться, не хотела выглядеть слишком сильной или слишком уязвимой. Просто ещё одна женщина в чужом городе, пришедшая на шумную вечеринку ради того, чтобы завтра не пожалеть об одиночестве.
Вечер в клубе “Rasa Svara” начался для Санадж так, как обычно начинались все вечера в чужих городах: с легкой неуверенности, странной привычки искать взглядом знакомые лица там, где их быть не могло. Клуб утопал в золотистом свете ламп, и в этой роскоши, где каждый штрих был выверен до абсурда – от ковровых дорожек с тонкой вышивкой до ритуала подачи аперитива, чувствовалась нарочитая игра в новый бомонд, игра для тех, кто хотел доказать себе, что история – это всегда что-то личное, всегда про выбор стороны.
Санадж стояла у барной стойки, наблюдая, как под потолком кружатся тени: коллекционеры, критики, галеристы, несколько известных артистов – все смешались, образуя пёстрый узор, который менялся с каждым новым тостом, с каждой новой историей, произнесённой вполголоса. Иногда казалось, что даже воздух здесь пахнет ложью, или, может быть, это был просто дух времени, приправленный мускусом и чёрным перцем.
Ритика мелькала рядом, подводила к Санадж то одного, то другого гостя, представляла, добавляя к каждому имени короткую биографическую справку – "самая перспективная кураторша города", "наследник торговой империи", "журналист из Лондона, снимающий фильм о колониальной эпохе". Санадж кивала, улыбалась, но всё глубже уходила в себя, ощущая, как с каждой новой встречей между ней и этим городом вырастает стена, как будто сама атмосфера противится её возвращению.
В какой-то момент ей показалось, что воздух стал гуще. Сквозь этот сладковатый, густой, как сироп, аромат алкоголя, духов, специй вдруг прорезался иной запах, слишком знакомый и неуместный для зала, где каждое движение выверено, каждый звук приглушён. Запах жасмина. Он был лёгким, едва уловимым, словно его принесла чужая рука, словно кто-то только что прошёл слишком близко, оставив после себя невидимый след.
Санадж оглянулась, пытаясь найти источник, но вокруг были только улыбающиеся рты, золотые бокалы, медленные жесты танцующих пар. Она знала этот запах: он всегда появлялся тогда, когда в жизни происходило что-то невидимое, но важное, когда за очередной вежливой улыбкой пряталась угроза или тайна. Этот запах был мостом к детству, к лету, когда на рассвете мать вплетала ей в волосы жасминовые цветы, к снам, в которых она бежала босиком по прохладному полу к окну, где уже начиналась новая гроза.
На этот раз запах исчез так же быстро, как и появился. Ритика позвала её за стол, где уже ждали несколько гостей: трое мужчин в тёмных костюмах и женщина в алом сари, смеющаяся слишком громко, будто стараясь перекричать саму тишину. Кто-то сделал ей комплимент, кто-то попросил подписать книгу, кто-то пытался выяснить, зачем она вернулась в Индию после стольких лет, и никто не ждал честных ответов, только очередной истории для своего частного архива.
Санадж отвечала изящно, но без особого участия. Она наблюдала за руками собеседников, за движением глаз, за тем, как у одного из мужчин подрагивал мизинец, когда он говорил о "настоящей культуре", и как женщина в алом сари каждый раз перед тем, как рассмеяться, чуть сдвигала плечи, будто старалась защититься от чего-то невидимого.
Кто-то незаметно налил ей вина, кто-то что-то добавил в бокал, она не видела, но ощутила: в следующий глоток вмешалась посторонняя сладость, вкус был странно густым, и оставлял на языке металлическое послевкусие. В голове словно щёлкнул переключатель: звуки отдалились, свет стал ярче, чужие лица расплылись, и комната словно опустилась на полтона ниже, здесь, среди сотни голосов, она вдруг осталась совершенно одна.
В этот момент рядом возник мужчина. Она не сразу поняла, как он появился, просто увидела руку, которая быстро, уверенно отодвинула её бокал, и услышала тихий голос:
– Здесь не стоит пить, – и почти не разобрала черт лица, только сильный профиль, строгие губы, ровный спокойный взгляд.
Он не смотрел на неё прямо, не произносил её имени, не предлагал ничего объяснять. Его голос был чужим, но в нём не было ни угрозы, ни суеты, ни любопытства, только сдержанная забота, в которой не было ни намёка на сочувствие.
– Вас ждут в фойе, – добавил он, – сейчас не время для танцев.
Санадж машинально встала, почувствовав, как по спине пробежала дрожь. Её пальцы дрогнули, сжимая край бокала, который она всё ещё держала, и она шагнула к нему, будто намереваясь спросить, кто он и почему вмешивается. Губы шевельнулись, готовые выдать вопрос, но голос застрял, пойманный тяжестью его взгляда. Он чуть кивнул, ни улыбки, ни лишнего жеста, только движение головы, будто знал, что любая благодарность или вопрос были бы сейчас лишними.
– Я тебя не спрашивал, – тихо сказал он, почти шёпотом, и исчез в толпе так же быстро, как появился.
Всё произошло за минуту – бокал исчез со стола, мужчина исчез из поля зрения, клуб будто стал на миг прозрачным, и только запах жасмина вновь возник где-то на границе реальности и сна, оставив после себя лёгкое головокружение.
Ритика не заметила ничего необычного, она отвлеклась на новый круг гостей, завела Санадж в другой зал, где всё продолжалось в прежнем ритме. В тот вечер никто не танцевал, танцы отменили якобы из-за внезапного визита мецената, но в глазах многих читалось другое – тревога, настороженность, ощущение, будто за пышной маской вечера скрывается чужое, опасное дыхание.
Санадж вернулась в гостиницу поздно, шаги гулко отдавались по коридору, будто сама ночь наблюдала за ней, оценивая, всё ли она помнит, не потеряла ли на этот раз чего-то важного. Она медленно разделась, сбросила платье, отпустила волосы и осталась босиком на прохладном полу, слушая, как в городе угасает жизнь, как где-то за окнами снова расцветает жасмин.
Лёжа на кровати, она долго смотрела в потолок, стараясь восстановить в памяти лицо того, кто спас её – мужчину с чужим голосом, чужим взглядом, чужой заботой, которая почему-то казалась самой настоящей из всего, что происходило этим вечером.
Она заснула поздно, во сне слышала музыку, которую так и не сыграли, запах жасмина был в каждом дыхании.
Утро в гостинице наступило как всегда слишком резко. Санадж проснулась от тонкого шума – где-то за стеной хлопнула дверь, по коридору пробежали чужие шаги, и в этот момент на город уже ложился тусклый, липкий свет. Она долго лежала, не двигаясь, разглядывая белый потолок, где плясали смутные тени, и только когда солнечный луч скользнул по тумбочке, увидела его – кулон.
Он лежал так, словно его оставили здесь не просто как напоминание о ночи, а как знак, что теперь она не сможет отделаться ни от одного воспоминания, ни от одного имени, ни от единого прикосновения, когда-то определившего её судьбу. Санадж осторожно протянула руку, взяла кулон, и ощутила под пальцами привычную тяжесть металла, острую трещину в камне. Сердце сжалось, будто бы под кожей открылась старая, не до конца зажившая рана.
Она не сразу позволила себе вспомнить, слишком много лет прошло с тех пор, как кулон исчез, слишком много раз она пыталась вытравить его образ из памяти, спрятать от самой себя тот кусочек детства, в котором было всё: и счастье, и боль, и предчувствие гибели. Сейчас кулон казался ей одновременно и вестником, и проклятием, и знаком того, что ночь в клубе была не просто чередой случайностей, а началом чего-то, что уже не остановить.
Она встала, заварила себе крепкий чёрный чай, и долго смотрела как в чашке плавают травинки. Ритика уже с утра прислала сообщение: «Всё ли в порядке? Не забудьте про встречу в галерее. Если понадобится что-то – я на связи». Санадж не ответила сразу, ей нужно было время, чтобы собрать себя по кусочкам, выстроить между собой и этим утром хотя бы тонкую защитную стену, чтобы не позволить воспоминаниям захлестнуть её слишком быстро.
Её тревожило не только появление кулона, но и ощущение, что ночь так и не закончилась, она просто сменила маску, стала тише, незаметнее, спряталась в деталях. Джон, она не знала его имени, но уже в голове назвала его именно так, интуитивно, будто бы эта история когда-то уже случалась с ней, вспоминался ей не как герой, не как спаситель, а как тень, проходящая сквозь толпу. В его голосе было что-то знакомое, в его молчании то, что не требовало объяснений. «Я тебя не спрашивал», – эти слова всплывали вновь и вновь, будто напоминание, что не все вопросы имеют право на ответ, не все встречи предназначены для повторения.
Она вернулась к кулону, перебирала его в руках, вспоминала, как в детстве носила его на тонкой цепочке, как мать предупреждала не терять, не отдавать чужим, как в ту самую ночь, самую страшную, самую долгую, кулон исчез, а вместе с ним исчезло что-то очень важное, что-то, что она так и не смогла назвать.
Санадж вышла на балкон – утро уже окончательно овладело городом, по улице тянулись мотоциклы, женщины в ярких сари торговались на углу, в воздухе витал запах уличной еды, смеси специй, дыма, пота и чего-то свежего, похожего на ливень. И всё же, несмотря на этот калейдоскоп запахов, в какой-то момент она снова почувствовала тонкий, невидимый аромат жасмина, неуловимый, тревожный, преследовавший её ещё ночью.
Мир будто сужался до одной точки: кулон в ладони, запах жасмина, голос, звучащий на границе сна. Она поняла, что всё, происходящее теперь, было не просто случайностью, а частью чьей-то большой, невидимой игры, в которую её втянули без разрешения, без предупреждения. Тревога не отпускала, но вместе с ней в ней росло и странное любопытство, острота, которую она давно не испытывала. Что-то пробуждалось, не только память, но и внутренний импульс идти дальше, не убегать, не закрываться.
Когда Санадж вошла в галерею, было ещё слишком рано для публики, но Ритика уже ждала её у дверей. Она держала в руках планшет и блокнот, то и дело посматривала на часы, нервно грызла край ручки. При виде Санадж она старалась улыбнуться как обычно, но взгляд выдал тревогу, не ту, которую можно скрыть под рабочей вежливостью, а проникающую в каждое слово, в каждую паузу между репликами.
– Как вы себя чувствуете? – спросила Ритика с мягкой осторожностью, теребя край рукава, будто проверяя, выдержит ли ткань её нервозность.
– Лучше, чем ожидала, – ответила Санадж, удивившись спокойствию собственного голоса. – Ночь была слишком длинной для первого дня в городе.
Ритика опустила глаза, её пальцы замерли на планшете, и пауза повисла, тяжёлая, как влажный воздух Мумбаи. Она кашлянула, словно пытаясь прогнать неловкость, и тихо заговорила:
– Мне… мне только утром рассказали про тот случай в клубе. Про бокал. – Голос её дрогнул, выдавая стыд, спрятанный за вежливой улыбкой. – Я должна была заметить, следить внимательнее… Простите, Санадж, мне правда жаль, что я пропустила это.
Санадж ощутила, как внутри вспыхнула тонкая искра тревоги. Она вспомнила голос того мужчины, его руку, отодвинувшую бокал, и фразу, прозвучавшую, как обет: «Я тебя не спрашивал».
– Был какой-то человек. Не уверена, что он был гостем, – сказала она осторожно, – но он ушёл, не оставив имени. Просто… оказался рядом, когда был нужен.
Ритика кивнула, но её взгляд, блуждающий по полу, выдавал больше, чем забота о подопечной. Она стиснула планшет, словно он мог спрятать её растерянность, и понизила голос:
– Иногда здесь появляются люди, которых мы не приглашали. – Она бросила быстрый взгляд через плечо, будто стены могли подслушать. – Я проверяю списки, всегда проверяю, но в Мумбаи… многие предпочитают тень.
Ритика замялась, её пальцы снова дрогнули, теребя ручку. Она заговорила почти шёпотом:– Думаешь, мне стоит бояться? – спросила Санадж, неожиданно для себя.
– Не мне решать, чего опасаться в этом городе. Но… если что-то ещё покажется странным, скажите мне сразу, хорошо?
В этот момент в зал вошёл молодой ассистент, поздоровался слишком громко, и атмосфера снова стала будничной, но в коротком взгляде Ритики, в её попытке спрятать руки в карманы платья, Санадж уловила не только заботу, но и свой собственный, ещё не оформленный страх. Казалось, что обе они пытались ухватить за хвост невидимую опасность, почувствовать приближение беды до того, как она примет чёткие очертания.
День продолжался, будто ничего не изменилось – обсуждали развеску работ, Ритика убеждала Санадж согласиться на короткое интервью для телевидения, приносила кофе, называла имена гостей, ожидаемых к вечеру. Но в паузах между её словами зияла тишина, хранившая память о той ночи, где никто не танцевал.
Они шли по выставочному залу, останавливались перед картинами, обменивались скупыми замечаниями о новых медиа. Ритика говорила о планах галереи, о фестивале, о своих мелких задачах, но её голос неизменно возвращался к вечеру в «Rasa Svara», к странному мужчине, чьё появление оставило след в воздухе, густом от недосказанности.
– Тот мужчина… – решилась она, остановившись у окна, где улица шумела за стеклом. – Он показался вам знакомым?
Санадж замерла, её пальцы дрогнули, тронув край платка, под которым пряталась находка, жгущая грудь с самого утра.
– Не знаю, – ответила она ровно, скрывая смятение. – Его слова… слишком точные.
Ритика кивнула, её глаза скользнули по лицу Санадж, будто искали трещину в её сдержанности. Солнце за стеклом било в лицо, слепило, размывая черты, и в этой тишине повисли невысказанные вопросы, не находившие выхода.
– Если что-то случится, скажите мне, – тихо повторила Ритика. – Даже ночью. Даже если покажется пустяком.
Санадж слегка улыбнулась, не выдавая ни тревоги, ни тепла:
– Я справлюсь. Но… благодарю за заботу.
Её слова были вежливы, но в них сквозила настороженность. Ритика осталась стоять у окна, а Санадж отвернулась, чувствуя, как груз находки тянет её к земле, к прошлому, к ответам, которых пока не было.
Весь день Санадж провела за рабочим столом – перебирала заметки, смотрела старые фотографии, делала наброски для книги. Её мысли то и дело возвращались к вчерашнему клубу: музыка, голоса, свет, всё будто стало зыбким, нереальным, словно под поверхностью этой ночи жила совсем другая история, готовая вырваться наружу при первом неверном шаге.
Она думала о мужчине, который так странно появился и исчез, о том, почему его голос прозвучал для неё как спасение и как вызов одновременно.
«Я тебя не спрашивал…» – эта фраза казалась ей одновременно обещанием защиты и чем-то большим, чем просто вмешательство случайного гостя. В ней был какой-то свой смысл, свой код, и чем больше она думала, тем меньше могла вычеркнуть его из памяти.
Вечер снова принёс с собой запах жасмина, неуловимый, тревожный, таинственный, он прокрался в комнату, смешался с ароматом бумаги и чернил, с голосами, доносящимися из телевизора, и на миг ей показалось, что она снова слышит тот шёпот, который всегда предшествует переменам.
Она сидела с кулоном в ладони, глядя на него, как на немой вопрос, как на вызов судьбы, которую теперь нельзя отвернуть. В этот вечер она поняла, что даже если больше не встретит этого мужчину, уже ничего не сможет забыть.
В ту ночь Санадж долго не могла заснуть. Гостиничный номер казался ей слишком правильным, слишком чистым, в каждом предмете, в каждой тени было что-то чужое, словно сама комната отказывалась признавать её своей. Она положила кулон на тумбочку, рядом с телефоном, словно боялась, что если оставит его в шкатулке или спрячет в сумку, он исчезнет снова, растворится в темноте, заберёт с собой весь смысл последних дней.
Окно выходило на улицу, где среди шума машин, гудков и человеческих голосов, казалось, можно было услышать любое имя, если долго вслушиваться в гул ночного города. Она стояла, облокотившись на подоконник, и вглядывалась в поток фар, в изломанные фигуры пешеходов, в силуэты продавцов, которые не спешили убирать свои тележки даже глубокой ночью. Всё это было ей знакомо и в то же время невыносимо новым, будто бы за время её отсутствия город научился чему-то другому – как прятать тени, как держать память под замком, как внушать тревогу одним только дыханием ветра.
В какой-то момент она уловила тот самый аромат – лёгкий, почти неощутимый, как воспоминание о чём-то безвозвратно ушедшем. Запах жасмина. Он пробрался в комнату сквозь неплотно закрытое окно, смешался с ароматом старой бумаги, чая и незамеченной тревоги. Она знала, что этот запах всегда приходил накануне перемен, всегда появлялся там, где должно было произойти что-то важное. Детство, дом, мать, старый двор, где по утрам женщины вплетали цветы в волосы, и где каждая из девочек мечтала вырасти, уехать, стать кем-то другим, всё это вдруг налетело на неё с такой силой, что ей стало трудно дышать.
Санадж взяла кулон, ощущая, как он отзывается в руке тяжестью, не столько вещью, сколько памятью. Она вернулась к детству, к влажным вечерам, когда она, ещё девочка, играла с подругой во дворах, где воздух пах жасмином и тревогой. Они смеялись, делились секретами, не зная, какие тени уже собирались вокруг их семей. Кулон тогда был с ней, на тонкой цепочке, тёплый от её кожи, будто хранил в себе их общие мечты.
Она вспомнила мать – её руки, запах её кожи, низкий голос, звучащий только в те минуты, когда слова становились важнее молчания. «Береги это», – говорила она, касаясь кулона, и в её глазах мелькала тень, которую Санадж тогда не умела читать. В памяти оживали женщины её рода, их упрямство, их одиночество, их умение хранить тайны, не прося о помощи. Сколько раз она, взрослея, клялась себе, что не станет такой, что уйдёт, начнёт жизнь заново, оставит всё ненужное? Но теперь, держа кулон, вернувшийся спустя годы, она ощутила, как прошлое цепляется за неё, словно чужая воля, идущая по пятам.
Она легла в кровать, закрыла глаза, но сон не приходил. Мысли возвращались к мужчине в клубе, она не видела его лица, только голос, только тот короткий, почти резкий жест, с которым он отодвинул бокал, и слова – «Я тебя не спрашивал». Эти слова были не упрёком, не просьбой, а чем-то другим, как будто между ними был заключён немой договор – доверие без объяснений, помощь без благодарности.
В комнате становилось всё темнее, шум города стихал, но тревога не уходила. В какой-то момент ей показалось, что кто-то стоит под окном, что в тени возле фонаря мелькнула тёмная фигура. Сердце забилось чаще, она встала, выглянула наружу, но на улице никого не было. Всё это могло быть лишь игрой воображения, но теперь, после этой ночи, после возвращения кулона, Санадж уже не была уверена, что случайностей в её жизни быть не могло.
Она знала, что эта ночь – только начало. Всё, что было забыто, теперь требовало возвращения.
Утро не принесло облегчения. Санадж проснулась внезапно, будто кто-то невидимый дотронулся до её плеча, и первым движением поискала кулон на тумбочке. Он лежал там же, как символ, как вызов, как загадка, к которой ей только предстояло подступиться. Сон забылся мгновенно, оставив после себя лишь смутный вкус тревоги и странное ощущение, что всё происходящее не случайно, а кем-то заранее задумано.
Город за окном уже жил своей громкой, суетной жизнью: мотоциклы, голоса, торговцы фруктами, дети, которые не боялись шума и ветра. Санадж долго сидела на кровати, прижимая кулон к ладони, словно пытаясь извлечь из него объяснение. Она вспоминала, как много лет назад, ещё девочкой, верила в силу предметов, казалось, если долго держать что-то важное в руке, можно уберечь себя от беды. Теперь эта вера возвращалась к ней вместе с ощущением опасности, которое крепло с каждым днём.
На завтрак она вышла поздно, накинула шаль, чтобы спрятаться от утреннего солнца. В ресторане гостиницы было почти пусто. За соседним столом двое мужчин что-то шептали по‑английски, оглядываясь через плечо, как будто тоже искали кого-то знакомого. Она поймала себя на том, что теперь смотрит на всех иначе – всматривается в глаза, ищет в каждом жесте намёк, в каждом слове предостережение.
Ритика пришла за ней чуть позже обычного, с кофе навынос и тёмными кругами под глазами. Вид у неё был такой, будто за ночь она пережила больше, чем за неделю в офисе.
– Вы в порядке? – спросила она тихо, почти не глядя в лицо.
– Я… пока да, – ответила Санадж, хотя сама не поверила в собственный тон.
– Если хотите, – добавила Ритика, – я могу остаться с вами до вечера. Или позвать кого-то из знакомых, у нас есть люди, которые могут просто быть рядом.
– Не стоит. Я не ребёнок, – мягко усмехнулась Санадж. – Если честно, мне спокойнее, когда меньше чужих людей.
Они вышли на улицу, и медленно пошли по боковой аллее, где ещё оставалась тень, где запах жареного нута и специй вплетался в воздух так густо, что кружилась голова. Машины проезжали рядом, оставляя за собой следы пара, шум и усталость. Вдруг Санадж почувствовала, что за ними кто-то идёт. Она обернулась быстро, резко, но за спиной была только женщина с ребёнком и мужчина с газетой.
Ритика заметила её движение и спросила:
– Всё хорошо?
– Просто показалось, – отмахнулась Санадж. – Иногда этот город становится слишком тесным.
Они молча шли до галереи, где должен был состояться очередной рабочий завтрак с кураторами и местными журналистами. Но в этот раз Санадж не могла сосредоточиться ни на одном разговоре. Все фразы казались ей пустыми, а между словами, как между высокими зданиями на улице, пряталась пустота, из которой могло вырасти что угодно – страх, подозрение, отчаяние.