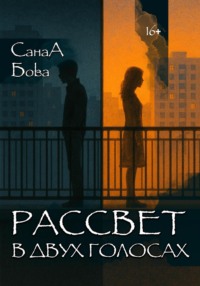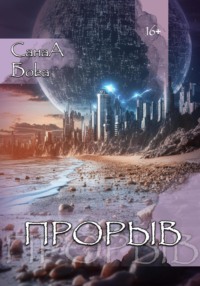Полная версия
Слёзы Индии
Она кивнула и посмотрела на свои ладони – на одной осталась красная нитка, которую когда-то повязала ей мать.
Джон достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.
– Мне опять передали карту. На ней твоё имя и имя Кумара, всё соединено линией. И снова та фраза: If love is a crime… Я уже не понимаю, кто кому теперь оставляет эти знаки, мы им или они нам.
Санадж молча посмотрела на бумагу, потом перевела взгляд на кулон, который снова оказался в руке.
– Курьер доставил такое же сюда перед твоим приходом.
Джон, перебирая в руках карту, посмотрел на Санадж.
– Ты хочешь встретиться с Кумаром?
– Я не знаю, – ответила она. – Если встреча и произойдёт, не я её выберу.
Джон задумчиво посмотрел на неё и перевёл взгляд на стол.
– Я раньше думал, что любовь – это выбор. А теперь не знаю.
– Если любовь – преступление… – Санадж покрутила кулон, – тогда выбора, наверное, нет.
В галерее становилось людно: пришли художники, кто-то громко смеялся у входа, мимо прошёл ребёнок с папкой для рисования, запахло масляной краской, чёрным чаем и мокрой бумагой. В коридоре снова возник спор – кто-то не хотел отдавать ключи, кто-то кричал, что забыл что-то в подсобке. Но всё это было только фоном: Санадж сидела у окна, глядела на улицу, где один из “чёрных дхоти” медленно перешёл дорогу и исчез за грузовиком.
– Знаешь, что странно? – вдруг сказала она. – Я не чувствую страха. Только какое-то странное облегчение. Как будто если всё это вскроется – станет проще жить.
– Может, это и есть взрослость, – усмехнулась Ритика. – Бояться не того, что снаружи, а того, что внутри.
– А если всё, что было, уже произошло, и мы только повторяем чью-то чужую ошибку?
– Тогда, наверное, нам пора делать свои, – тихо ответила Ритика.
Джон встал, накинул на плечо куртку.
– Я схожу проверить двор. Если кто-то будет тебя искать, зови меня.
– Спасибо, – отозвалась Санадж. – Я всё равно никуда не уйду.
Джон ждал у выхода, прислонившись к стене, курил сигарету, смотрел на проезжающие мимо тёмные автобусы. Когда Санадж вышла, он молча бросил окурок, накинул на плечо куртку и пошёл рядом. Они шли в тишине, не торопясь, будто каждый шаг давал городу время подумать, отпустит ли он её на этот раз.
У подъезда Джон остановился.
– Дальше ты сама?
– Да. Спасибо, – тихо ответила Санадж.
Он кивнул, чуть задержался взглядом, потом развернулся и растворился в вечернем воздухе.
Санадж поднялась домой. Свет в комнате был приглушён, воздух пах лекарствами и ладаном.
– Ты уже дома? – спросила мать, не открывая глаз.
– Уже, – ответила Санадж, присев к ней на край дивана. – Мам, а у тебя остались фотографии из той деревни?
Мать долго молчала, потом отвернулась к окну.
– Я не люблю смотреть на прошлое, – сказала она. – Там ничего хорошего нет.
– Всё-таки… – Санадж осторожно взяла её за руку. – Я бы хотела что-то понять. Там, в тот год…
– Там всегда все молчали, – прервала мать. – И сейчас молчат. Ты лучше не спрашивай про то время, доченька. Тебе с этим не жить.
Санадж почувствовала, как в горле застряла невысказанность. Она встала, прошла на кухню, налила себе чай и встала у окна. Город за стеклом гудел и мерцал, словно каждый этаж жил отдельной, никому не нужной жизнью. Она думала о том, что память – это, наверное, и есть самая страшная роскошь в их семье.
Позже, когда в коридоре хлопнула дверь, в квартиру снова зашёл Джон. Он был в джинсах, белой футболке, с рюкзаком за плечами. Остановившись на пороге, он быстро оглядел комнату.
– Всё спокойно?
– Как всегда, – ответила Санадж.
– Не ходи одна, ладно? – он говорил тихо, глядя в пол. – Сегодня мне показалось, что за мной тоже кто-то шёл.
– Может, кажется уже.
– Нет, – он сел рядом, подперев голову рукой. – Я слишком хорошо помню такие вещи.
Они молчали, слушая, как на улице кто-то ругался, хлопнула дверь подъезда, в соседней квартире закашляли старики.
– Ты ведь знаешь, зачем они это делают? – наконец сказал он. – Карта, письма, разговоры – они хотят, чтобы ты поняла: всё, что у тебя есть, – это долг.
– А если я не хочу ничего отдавать?
– Здесь так не бывает. Если любовь – преступление, то свобода – двойное преступление.
Она засмеялась, но смех получился слабым.
– Знаешь, – добавила она, – иногда мне кажется, будто все мы здесь ходим по кругу.
– А что бы ты выбрала, если бы можно было всё забыть?
– Наверное, не выбрала бы ничего, – она посмотрела на руки. – В этой семье нельзя выбирать. Только помнить.
Поздно ночью, когда город почти стих, Санадж сидела у окна. Она перебирала в руках кулон, гладила пальцем его холодную поверхность, как будто пыталась вытащить из него хоть одну чужую правду. В голове вертелись голоса: мамины недосказанности, шёпот продавщицы у лавки, тихий страх в словах Джона.
И всё же в этой тишине был какой-то свой покой: даже когда за окном тянулись тени, когда в подъезде глухо хлопали двери, когда город медленно засыпал, внутри неё росло упрямое чувство, что если любовь – преступление, значит, надо жить так, будто каждый день – последний день вины.
На рассвете город снова напоминал себя прежнего: в мутном стекле маршрутки отражались лица, не запомнившие ночи; мокрый асфальт блестел полосами, будто после крупной стирки; дворы вымывались, словно кто-то хотел стереть с них всю прежнюю вину. Но тревога никуда не исчезала. На остановке возле рынка мужчины поправляли воротники рубашек, женщины, укрывшись палантинами, уводили детей от луж, где в зеркале воды плыли тени. Вся жизнь текла рядом с главной дорогой – её шёпот прятался в рекламных слоганах, трещинах в штукатурке, взглядах, которые быстро уводили в сторону.
Джон вышел из дома без особого плана: куртка цвета мокрого асфальта, хлопковая футболка, штаны с затёртыми коленями, обувь насквозь мокрая, потому что ночью в подъезде текла вода с крыши. Он не любил планировать маршрут, когда знал, что за ним следят: лучше менять дорогу на каждом перекрёстке, теряться в толпе, заходить не через парадный, а через служебный вход. Так было спокойнее и для него, и для тех, кто мог случайно попасть в круг чужих ошибок.
У галереи в этот раз было людно: рабочие устанавливали новую вывеску, кто-то вёз ящики с каталогами, через дорогу тянули проводку для нового уличного освещения. Ритика стояла у входа в сером плаще, поверх простая майка, чёрные леггинсы, волосы собраны в пучок – и всё равно выбивались на висках. Она держала в руках пластиковый стакан с кофе и щурилась, оглядывая двор.
– Они сегодня даже не прячутся, – негромко сказала она, кивнув в сторону двух мужчин у цветочного киоска. – Один из них утром был у магазина электроники.
– Те же самые? – спросил Джон, привычно не оборачиваясь.
– Один тот же, второй другой. В чёрном, с золотым браслетом, видела у него шрам на руке.
Джон коротко кивнул и запомнил. Внутри галереи всё было по-старому: запах краски и клея, мокрые пятна у батареи, бумажные коробки с записями, чьи-то куртки, повешенные на дверь. В коридоре, как всегда, спорили двое грузчиков, решая, как пронести картину в соседний зал. По полу тянулись мокрые следы ботинок, кто-то забыл пакет с яблоками на стуле, рядом валялась обрывочная карта с пометками карандашом. На стене висело расписание, исписанное разными руками, часть строк зачёркнута, даты сдвинуты, фамилии менялись – всё это было в привычном хаосе выставочного быта.
Санадж появилась почти незаметно: мягкая голубая рубашка, тёмные широкие брюки, серые босоножки на плоской подошве, волосы забраны в низкий хвост. Она быстро прошла мимо витрины, посмотрела на лестницу, кивнула Джону и Ритике и задержалась у стойки, взяв письмо, оставленное кем-то из сотрудников.
– Что-то случилось? – спросила Ритика, заметив, как дрожат её пальцы.
– Просто устала, – отозвалась Санадж, – опять письма, опять эти карты с фамилиями и намёками. Знаешь, иногда мне кажется, что я задыхаюсь не от страха, а от количества слов, которые приходится глотать.
Джон подошёл ближе, взял у неё бумагу.
– Опять карта?
– Да. Всё то же: SANAAJ, KUMAR, линия, тот же почерк, как будто кто-то специально повторяет маршрут до бесконечности.
– Может, это кто-то из своих?
– Нет, – ответила Санадж, – свои так не пугают. Они просто исчезают, когда всё становится слишком явно.
За спиной хлопнула дверь, мимо прошёл рабочий с инструментами, поздоровался, огляделся, махнул рукой. Всё выглядело как обычно, но под этой будничностью что-то сдвигалось, какое-то напряжение просачивалось через одежду, жесты, взгляды. В подсобке кто-то возился с бумагами, а на улице уже слышались первые крики уличных торговцев.
– Ты говорила с матерью? – спросила Ритика, когда осталась наедине с Санадж.
– Говорила, – та вздохнула, присела на подоконник, посмотрела в окно, где стекло покрывалось пылью. – Она снова молчала. Сказала: “Не открывай дверь никому, кого не знаешь по имени”. Смешно, правда? Я уже и сама себя не узнаю по имени.
Ритика пожала плечами, поправила шарф.
– Если бы ты могла что-то спросить у неё сейчас, что бы это было?
Санадж замерла, посмотрела на кулон в руке, на карту.
– Я бы спросила, почему так трудно отпустить то, что даже не твоя вина. Почему даже если любовь – преступление, мы вынуждены платить за ошибки других.
В этот момент рядом прошёл Джон, устало улыбнулся и поставил на стол чашку с чаем.
– Пойдём и сегодня вместе, – предложил он.
– Не думаю, что это что-то изменит, – тихо сказала Санадж, – но мне спокойнее, когда ты рядом.
Вечер заканчивался тяжёлым светом, улицы пахли горьким дымом и пряностями. Галерея опустела, рабочие ушли, только за стойкой осталась одна из сотрудников – девушка с тонкими руками, в старом свитере, читая газету и щурясь в полумраке.
Санадж переоделась, набросила на плечи лёгкий платок и вышла на улицу вместе с Джоном. Они шли медленно, молча, мимо закрытых лавок, сквозь шум транспорта, мимо аптеки, где продавец уже убирал витрину, и по переулку, где в лужах отражались жёлтые фонари. Где-то глухо хлопнула дверь, из окна донеслась музыка, кто-то ругался на последнем этаже.
– Ты веришь, что всё это можно закончить? – спросила Санадж, не глядя на Джона.
– Я не знаю, – он пожал плечами, – но если любовь – преступление, то, может быть, иногда лучше быть виноватым, чем забытым.
– Ты всегда так говоришь, когда не знаешь, что делать, – улыбнулась она сквозь усталость.
Они дошли до дома, поднялись по лестнице, где пахло хвоей и сырой стеной, вошли в квартиру. Мать спала, на кухонном столе осталась чашка с недопитым чаем, на подоконнике валялся ключ. Санадж села рядом с Джоном на диван и сняла босоножки.
– Знаешь, – сказала она, – я больше не боюсь. Я просто хочу понять, где заканчивается мой долг и начинается чужая вина.
Джон молча взял её за руку, а за окном шелестел город, пряча свой страх за тёплыми окнами и хрупким светом ламп.
Утро в Мумбаи не начиналось, оно как бы просачивалось в каждую трещину, в каждый стык оконных рам, в каждую складку одежды. Город не знал покоя, после дождей всё ещё стояла духота, в комнатах задыхались сырые простыни, на подоконниках собирались тёмные крошки земли. Окна в квартире Санадж покрывались плёнкой влажного пара – из-за неё всё за стеклом казалось размытым, как старые фотографии: прохожие, спешащие женщины с тазами, рыжий велосипед у стены, силуэт в чёрном дхоти у магазина специй. В этом скользящем свете каждая деталь будто бы теряла резкость и значение, превращаясь в бесконечное повторение дня.
Санадж проснулась раньше всех. На ней была ночная рубашка из мягкого ситца, уже вытертая и чуть потерявшая цвет, волосы распались на плечах тонкими прядями. Она бесшумно прошла на кухню, поставила чайник, вымыла чашки, вытерла со стола чёрный порошок пролитого кофе. За окном было серо, как будто солнце застряло в другом городе. Одежду для сегодняшнего дня она выбирала долго: простая длинная юбка в мелкий цветок, светлая блузка с коротким рукавом, бусы из граната, которые подарила когда-то бабушка. Кулон с рубином казался чужим, слишком тяжёлым, она сняла его, положила на край комода, но потом, поколебавшись, снова надела на шею.
Квартира постепенно наполнялась жизнью. Мать вставала медленно, осторожно, словно проверяя, не слишком ли много сегодня осталось воспоминаний. Она переоделась в хлопковое сари с серой каймой, на ногах стоптанные домашние тапки. За чаем мать сказала негромко, не глядя в глаза дочери:
– Ты не должна столько думать о прошлом. Мы всегда возвращаемся туда, где болит.
– А если оно само возвращается? – спросила Санадж, налив в чашку кипяток.
– Тогда нужно уметь ждать, – тихо ответила мать, взяла чашку двумя руками и прижала к груди, будто искала в тепле убежище.
Джон пришёл к ним под вечер, когда город уже был вымыт ливнем и улицы казались пустыми. Он был в простой чёрной футболке, клетчатой рубашке поверх и застиранных джинсах, в руках – сумка с продуктами. Пахло сыростью, в коридоре валялись тапки, в кухне на стене висел календарь с выцветшими числами.
– Ты что-нибудь выяснил? – спросила Санадж, убирая сумку.
– Всё как всегда: двое у галереи, один у перекрёстка. Видел их утром, потом исчезли.
– Джон, а ты уверен, что нас действительно ищут?
– Я в этом уверен уже много лет, – он сел за стол, глотнул чая, вздохнул. – Понимаешь, в этом городе ищут не тебя лично, а твою память, твои слабые места. Они следят за тобой так, как будто ты сама давно перестала быть собой.
Мать молча слушала их разговор, сжимая в ладонях чашку.
Джон посмотрел на Санадж внимательно, словно хотел что-то сказать, но промолчал. Вечер медленно вползал в комнаты, в каждой тени прятался их общий страх.
На следующий день в галерее вновь было оживлённо: рабочие сменяли друг друга, кто-то устанавливал прожекторы, кто-то ругался, что не хватает стульев. Ритика встретила Санадж у входа, на ней была длинная зелёная туника, лосины, волосы заплетены в косу, на лице свежие следы усталости.
– Ты в порядке?
– Как всегда, – пожала плечами Санадж. – Я больше устаю, чем боюсь.
– Сегодня тебя ждали у кофейни, трое стояли, будто ждали, что ты сама к ним подойдёшь.
– Мне кажется, мы все тут уже под следствием, – усмехнулась Санадж.
– Смешно было бы, если бы не было так по-настоящему.
Они шли вдоль стены галереи, где висели новые афиши: резкие мазки, абстракции, несколько портретов, на одном – лицо женщины с закрытыми глазами. Санадж задержалась у портрета и долго смотрела.
– Скажи, – спросила она у Ритики, – если бы ты знала, что за тобой всё время наблюдают, ты бы жила иначе?
– Не знаю, – тихо ответила Ритика. – Но, может быть, стала бы меньше молчать.
Они долго сидели в коридоре, болтали ни о чём, перебирали письма и вырезки, которые снова подбросили в ящик галереи: на всех – чьи-то имена, линии, та самая фраза: If love is a crime… Письма были без адреса, написаны разными почерками, но смысл был один и тот же – не забывай, не отпускай, не прячься.
Внутри галереи всё дышало суетой: рабочие тащили длинные рамы, кто-то спорил из-за списка экспонатов, у стойки секретарь в зелёном сари распределяла приглашения, в подсобке закипал чай. Запахи свежего клея, мокрого картона, чёрного перца смешивались с ароматом лаков. На стене, рядом с доской объявлений, снова кто-то приклеил вырезку из газеты: “В деревне М. найдено тело ребёнка с украшением на шее. Подозреваемых нет”.
Санадж долго стояла у этой вырезки, поглаживая текст пальцем, будто пытаясь стереть его одним прикосновением. Джон подошёл чуть позже, он был в плотной серой рубашке, джинсах, на руке старые часы с тёмным ремешком.
– Это кто оставил? – спросил он негромко.
– Не знаю, – ответила Санадж. – Здесь никто не признаётся, все делают вид, что ничего не происходит.
– Сегодня на перекрёстке снова стояли двое, – сказал он, – один с газетой, другой с портфелем. Мне кажется, мы уже живём в круге: все всё видят, но никто не может выйти.
Она покачала головой и с трудом улыбнулась.
– Если любовь – преступление… – сказала она, – то, наверное, все мы здесь рецидивисты.
Ритика, проходя мимо, шепнула:
– Я заметила, что одна из тех женщин у рынка носит такое же кольцо, как у моей матери было в молодости. Может быть, они тоже помнят, только молчат.
Весь день прошёл в привычной усталости: встречи с художниками, короткие разговоры в коридоре, чай в железных кружках, влажный воздух, который не выветривался даже после всех сквозняков. Одежда, кажется, впитывала в себя запахи краски и пыли, на пальцах оставались пятна от маркеров. За стеклом всё время стоял силуэт – казалось, что кто-то наблюдает, но никто не стучал в дверь.
После работы Джон проводил Санадж домой. Они шли молча, обходя лужи, считая шаги, город будто слушал их, не вмешивался, а просто ждал, чем всё закончится. Вечерний воздух был холодным, но не пронизывающим, а каким-то смиренным, как запах скошенной травы.
– Ты не устанешь от всего этого? – тихо спросил Джон.
– Я уже не устаю, – ответила Санадж. – Я живу как будто не для себя, а для того, чтобы кто-то мог потом рассказать это вместо меня.
– А если никто не расскажет?
– Тогда пусть хотя бы всё закончится на мне.
Дома мать встретила их молчанием, глаза покрасневшие, на ней было то же старое сари, платок, запах лекарств. Она коротко кивнула Джону, не сказав ни слова.
– Я принесла новую вырезку, – сказала Санадж. – Ты ведь знаешь, о чём она?
– Я знаю, – ответила мать, наконец поднимая глаза, – но не спрашивай меня больше. Иногда лучше жить, не открывая чужие двери.
Санадж долго сидела на полу, разбирая письма, перебирая кулон в руке. Она смотрела, как за окном гаснет свет, как по двору проходит женщина с ведром, как на крыльце задержалась тень, и всё это было похоже на повторяющийся сон, в котором нельзя выбраться из круга.
– Если любовь – преступление, – прошептала она, – значит, я виновата в том, что ещё не ушла.
В тот вечер она впервые написала в блокноте не имя, а вопрос: “Кому принадлежит этот город, если все мы – только его следы?”
Вечер падал на город длинной тенью, медленно, будто бы опасаясь спугнуть то хрупкое равновесие, которое держало на себе всё: мокрые крыши, шумные перекрёстки, уличные вывески, которые отсырели и выцвели за лето, и немой страх в каждом движении. На улицах было неспокойно – где-то заканчивали ремонт канализации, машины стояли в пробке, над головой бормотали вентиляторы, а от колёс автобусов на проезжей части оставались мутные полосы. В этом шуме, в гудках и криках, была своя усталость: город двигался, но никто не верил, что куда-то придёт.
Санадж сидела у окна, записывала в блокнот строчки, которые не знала пригодятся ли. На ней была домашняя широкая юбка из плотного хлопка, старая белая футболка, в которую она переоделась после работы, босые ноги были поджаты, на шее снова лежал кулон, и теперь он казался легче. Её движения стали медленнее, то ли от усталости, то ли потому, что в этой медлительности рождалось решение.
В прихожей щёлкнула дверь, на кухне зашуршала мать. Она появилась на пороге в своём вечном, выцветшем сари, с домашним полотенцем через плечо.
– Ты будешь есть? – спросила она.
– Не сейчас. Я хочу немного подумать.
– Всё думаешь… думаешь, и что меняется?
Санадж вздохнула, отложила блокнот, посмотрела на мать.
– Я хочу понять, где моя вина, а где твоя. Почему мы обе всю жизнь прячемся от слов? Почему всё, что было, нельзя рассказать вслух?
Мать села рядом и долго смотрела в пол.
– Потому что я боялась. Потому что нам никто не разрешал говорить. Потому что у каждого свой кулон, только носим мы их по-разному.
– А если я не хочу больше его носить?
– Неси его так, чтобы не забыть, но не повторять.
Они сидели молча, потом Санадж поднялась, накрыла стол, и заварила чай, делая это как всегда медленно, выверено, повторяя каждый жест, будто от этого зависело больше, чем просто ужин.
Поздно вечером пришёл Джон, постучал, чтобы не пугать. Он был в плотной кофте, джинсах, волосы слиплись от дождя, на лице усталость и лёгкая небритость.
– Привет, – сказал он, – всё хорошо?
– Всё как обычно, – ответила Санадж, пропуская его на кухню.
– Я думал, может быть, ты захочешь пройтись. Город сегодня будто весь оброс слухами. Я слышал, что завтра у галереи опять соберутся “чёрные дхоти”.
– Я не боюсь их, – сказала она. – Я боюсь, что больше никогда не смогу быть собой.
Они сидели на кухне, пили чай. За окном капал дождь, в окне отражались их лица, и в этом отражении было что-то новое – какая-то усталость, решимость, покой.
– Ты ведь понимаешь, что дальше не станет проще? – спросил Джон, глядя на неё поверх чашки.
– Я знаю. Но если любовь – преступление, тогда пусть все знают, что я виновата только в этом.
Мать убрала со стола, прошла в комнату, оставив их одних.
– Мне кажется, – сказал Джон, – что город боится не тех, кто совершает преступления, а тех, кто называет их своими именами.
– Тогда я буду звать всё своими именами, – тихо сказала Санадж. – Я не буду молчать, даже если это сделает меня мишенью.
Джон взял её за руку, и в этом жесте было больше поддержки, чем во всех словах, которые они сказали друг другу за последние дни.
Поздней ночью Санадж сидела у окна, слушала, как дождь бьёт по крыше и думала о том, что завтра всё изменится. Она написала в блокноте: “Я не хочу забывать. Я не хочу больше бояться. Пусть это будет моим преступлением”.
За стеной спала мать, во дворе гудел автобус, кто-то звал ребёнка домой, на лестнице поскрипывали чужие шаги. Всё было так же, но всё было иначе, и теперь внутри этой обычной жизни начиналась та самая свобода, за которую здесь всегда приходилось платить слишком много.
Утро наступило с гулом электричек и влажным ветром, от которого на стёклах оседал налёт – тонкая пелена, скрывающая город от самого себя. В этот день Мумбаи выглядел ещё более запутанным, чем обычно: закоулки, где обычно спали дети и сушились рыбацкие сети, были теперь усеяны мокрыми бумажными пакетами; на крышах, промокших насквозь, вилась медная проволока, а у каждого подъезда стояли женщины, присматривающие за бельём, чтобы его не унёс ветер. Вечером после ливня запах земли становился сильнее, чем запах нефти и выхлопных газов. Всё словно бы замедлялось – уличные торговцы разговаривали медленно, будто бы через сон, собаки не лаяли, а хрипло скулили на перекрёстках, ожидая чуда.
В галерее этим утром кипела тихая работа: полы вымыли рано, ещё до прихода сотрудников; у входа на табуретке сушились зонты, в фойе пахло чаем и свежим хлебом, в подсобке – бумагой, картоном, старыми плакатами. На стенах висели новенькие афиши выставки, где каждая буква, кажется, была напечатана чуть дрожащей рукой. Пространство наполнялось звуками: короткие команды рабочих, скрип старых окон, звон посуды. Здесь всё происходило в настоящем, не потому, что никто не помнил прошлого, а потому что прошлое слишком медленно покидало эти стены.
Джон появился спустя полчаса, в простой хлопковой рубашке, выцветших джинсах и старых кожаных туфлях. Сумка через плечо, лицо заросшее щетиной, взгляд задумчивый.
– В городе сегодня особенно много слухов, – сказал он, наливая себе чай. – Я шёл мимо старого рынка, там двое спрашивали про галерею, описывали тебя и Ритику. Я сказал, что никого не знаю, но они не поверили.
– Ты думаешь, они ищут нас?
– Думаю, они ищут не столько вас, сколько подтверждение, что память жива, – тихо отозвался Джон. – Когда прошлое становится угрозой, начинают искать не людей, а улики.
– Я иногда думаю, что если бы у меня не было этого кулона, ничего бы и не случилось, – сказала Санадж, неуверенно трогая рубин на цепочке.
– Это не кулон, – сказала Ритика. – Это всё, что ты с собой носишь, но не можешь ни отдать, ни выбросить.
На улице за окнами суетились фигуры: кто-то перекрикивал поток машин, кто-то спорил с продавцом, один из мужчин в чёрном дхоти задержался у киоска и что-то долго рассматривал на витрине. Санадж почувствовала, что каждый их день становится всё более прозрачным для посторонних глаз.
Рабочий день тянулся медленно: обсуждали развеску картин, переносили коробки, рассылали электронные письма, составляли отчёты для фонда. В перерывах все говорили о погоде, о ценах на продукты, о том, как трудно стало снимать жильё. Никто не спрашивал напрямую, что происходит в семье Санадж, но все знали, что за ней кто-то следит, что её имя всё чаще появляется в разговорах между галереями, в полунамёках и случайных взглядах.
К обеду пришло новое письмо, без обратного адреса, с аккуратной надписью на русском: “Если любовь – преступление, значит, мы все под судом”. Никто не признался, кто его принёс.