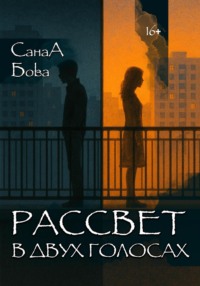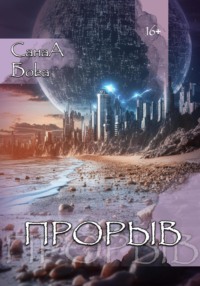Полная версия
Слёзы Индии
Джон не спал. Он сидел у окна, пристально глядя в рассветную пелену, где кусты и валуны были покрыты росой. На нём всё та же джинсовая рубашка, мокрые кеды стояли у двери, а в руках он держал свой старый блокнот, который иногда доставал в минуты особого волнения. Он смотрел, как на стекле отпечатывается его отражение, и в этом отражении пытался рассмотреть будущее, которое не пугало бы, а вызывало если не радость, то хотя бы уважение к собственной выносливости.
– Ты не спал? – спросила Санадж, поднявшись на локте. Голос её был тихим, в нём звучала не только забота, но и удивление: когда они остались вдвоём, Джон всегда казался крепче, чем на самом деле.
– Нет, – честно ответил он, не отрывая взгляда от окна. – Здесь, когда темно и тихо, слишком много мыслей приходит. Я боялся заснуть и проснуться в другом месте.
– Ты всегда так думаешь, когда рядом кто-то, кого ты не хочешь потерять? – спросила она, чуть улыбаясь, чтобы он не воспринял вопрос как обвинение.
– Я думаю так с детства, – признался он. – Всегда ждал, что если засну, что-то уйдёт навсегда, и я опять останусь один.
Санадж подошла к нему, присела рядом на старый плед и укуталась с ним плечом к плечу. За окном медленно светлело, и между их лицами отражалась не только усталость, но и то тихое упорство, которое делает выживших родными, даже если до этой ночи они знали друг о друге только главное.
– Нам надо идти, – сказала она, но без нажима, как говорят о неизбежном, не пугая, а приглашая к движению. – Этот дом слишком близко к городу. Если останемся, нас найдут или просто застрянем здесь, как тени в чужих стенах.
– Ты уверена, что сможешь? – Джон внимательно посмотрел на её бледное лицо, на запавшие глаза, на то, как осторожно она двигается, чтобы не тревожить больной бок. – Рана ещё свежая, а путь будет непростым.
– Я не знаю, – честно сказала она. – Но лучше идти вперёд, пока ещё можно, пока у нас есть хоть немного времени и сил, чтобы оторваться.
Джон встал, подтянул к себе сумку, проверил содержимое: бутылка воды, аптечка, немного еды, старая накидка, найденная в доме. Он помог Санадж обуться, поддержал её, когда она с трудом поднялась, и вместе они вышли на крыльцо. В этот рассветный час всё казалось новым, даже дыхание было иным, напоённым не только страхом, но и влажной, сырой надеждой, которая обычно приходит к тем, кто всё ещё верит в светлое небо над головой.
Дорожка вела от дома к старому оврагу, где земля была рыхлой, а трава цеплялась за ноги. Санадж шла медленно, чувствуя, как с каждым шагом возвращается к себе: боль не исчезала, но становилась обыденной, как жажда или голод, и в этой телесной привычке жилось легче, чем в постоянном ожидании боли. За спиной оставался дом, теперь уже не ловушка, а временное убежище, где всё, что нужно для выживания, сошлось в одну ночь.
– Знаешь, что странно? – вдруг сказала она, разглядывая следы на сырой земле. – Чем дальше мы уходим от города, тем сильнее я помню о нём.
– Город не уходит, – сказал Джон. – Он живёт в нас, даже если кажется, что мы его покинули. Все наши страхи и привычки, все тени и запахи – это часть нас, и только здесь, в этом сыром воздухе, можно почувствовать, где заканчивается чужое и начинается своё.
Они шли вдоль обрыва, за которым начинались первые предгорья: земля становилась твёрже, трава выше, а кусты жасмина попадались всё чаще, будто кто-то когда-то нарочно рассадил их по краю тропы. Запах жасмина был здесь свежим, острым, почти горьким – не тёплая домашняя пряность, а горькое напоминание о том, что за любым ароматом может скрываться и боль, и свобода.
Джон вдруг остановился и показал рукой вверх – склон холма над ними был покрыт полосами тумана, сквозь который пробивался синий свет раннего утра.
– Там будет проще, – сказал он. – На вершине есть развалины старого колодца, можно передохнуть. Дальше начинается лес – там мы будем в безопасности.
– Я тебе верю, – ответила Санадж, и это были не просто слова: в них звучало согласие на путь, на боль, на надежду, на всё, что приносит утро, когда ночь уже отпустила свои страхи.
Они двигались всё выше, и с каждым шагом реальность города отступала, растворялась в зелёном мареве, в крутом дыхании земли, в запахе мокрых листьев и свежей глины. Солнце медленно пробивалось сквозь полог облаков, но ещё не грело, только добавляло к простору холмов легкое серебро и ощущение чего-то незаконченного, словно весь этот путь был лишь прологом к новому испытанию. Земля под ногами была скользкой и мягкой, туфли проваливались в мох, и Санадж то и дело опиралась на плечо Джона, иногда неловко, иногда доверчиво, но всегда без слов, как бывает у людей, которым слишком многое пришлось вынести молча.
Тропа петляла вдоль обрыва, за которым открывалась долина, залитая ранним светом; далеко внизу, как в другой жизни, лежал город, похожий отсюда на расползшуюся лужу света, где каждая улица, каждый перекрёсток, каждый голос был теперь не более чем смутным воспоминанием. Ветер был сырой, пах травой и чем-то солёным, будто с дальних равнин сюда принесло дыхание моря, хотя до воды было не меньше сорока миль. Между старыми деревьями попадались пни с мхом, из земли выбивались корни, похожие на окаменевшие пальцы, а вокруг буйство жасмина: белые звёздочки в листве, россыпь лепестков на мокром камне, аромат терпкий, немного колючий, и такой густой, что в какой-то момент Санадж поймала себя на том, что не чувствует боли, только необыкновенную ясность.
– Посмотри, – негромко сказала она, указывая на вершину холма, где между двух старых тамариндов стоял силуэт. Возможно, это был просто корявый ствол или обломок каменной кладки, но в тумане всё приобретало значение. – Там… кажется, что это место помнит больше, чем любой из нас.
– В этих холмах много старых историй, – откликнулся Джон. Он говорил легко, будто дышал этим воздухом с рождения. – Когда я был ребёнком, дед рассказывал, что здесь, на перевалах, прятались те, кто не хотел быть никем – ни бандитом, ни святым, ни героем, ни трусом. Просто человеком, который хочет остаться живым.
Санадж остановилась, чтобы отдышаться. Она ощутила, как сердце бьётся слишком быстро, но этот ритм был уже не тревожным, а напоминал детскую беготню по траве: усталость, но не страх. Присев на край дорожки, она сбросила с плеча мокрый платок, посмотрела на Джона, и впервые за эти долгие дни увидела не только друга, спутника, защитника, но и такого же уставшего, согнутого жизнью человека, как она сама.
– Тебе не страшно идти дальше? – спросила она. В голосе не было ни укора, ни сомнения, только попытка разделить груз, который раньше казался слишком личным.
Джон присел рядом, вытянул ноги, задумчиво уставился на свои ладони.
– Страшно всегда, – признался он. – Но если не идти, то страх становится единственным местом, где ты живёшь. Я слишком долго жил только им.
– А мне казалось, что я умею быть храброй, – усмехнулась Санадж, – но теперь понимаю, что вся моя храбрость – это умение прятать боль.
– Иногда это и есть сила, – мягко ответил он. – Только не позволяй этой боли стать всем, что у тебя есть.
Она кивнула, чуть задержавшись на этом движении, чтобы Джон понял – это не просто согласие, а благодарность за его слова. Несколько минут они сидели молча: над головой кружились ласточки, ветер колыхал ветви, жасминовые лепестки медленно оседали на волосы, одежду, руки. Оба смотрели в одну сторону, но каждый видел что-то своё: Санадж – дорогу, которую нужно пройти, чтобы перестать быть заложницей вчерашних теней, Джон – женщину, которая впервые за долгое время перестала бояться идти рядом.
– Дальше будет легче, – произнёс он, помогая ей подняться. – Здесь уже не найдут ни те, кто ищет нас, ни те, кто ищет забвения.
– Я больше не хочу быть только памятью, – сказала Санадж, поднимаясь на ноги и с трудом накидывая платок на плечи. – Я хочу остаться живой.
Они пошли дальше, и с каждым новым шагом их дыхание выравнивалось, а мир становился не столь враждебным: день начал побеждать ночь, а туман – растворяться в ветре. Впереди тропа вилась между кустами и камнями, обещая новое укрытие, и в этой тишине, которую не нарушал даже запах крови, наконец появилось место для надежды.
Когда они добрались до вершины, день уже полностью вступил в свои права: туман сползал с камней и травы, воздух становился легче, под ногами похрустывали мелкие ветки, а с соседнего склона доносился запах влажной земли, густой и немного пряный, в котором смешивались следы прошлых дождей, ночного страха и первых, ещё робких ожиданий спокойствия. Перед ними открылся вид на долину: город, с этой высоты похожий на разбитую глиняную чашу, сверкал на солнце, но казался бесконечно далеким, будто они преодолели не просто несколько миль, а огромную границу между собой и всем, что было их прошлым.
Среди редких деревьев стояли развалины старого колодца, остатки кладки покрылись мхом, вокруг были раскиданы крупные камни, будто в прошлом здесь прятались те, кто умел исчезать. Здесь было тихо, настолько, что слышно было, как капля воды скользит по лепестку, а в кронах лопаются крохотные бутоны жасмина. Санадж присела на низкий камень, скинула обувь, дала ногам остыть, и обернулась, глядя, не остались ли позади их преследователи, но там, внизу, жизнь шла своим чередом, и их недавний страх теперь не был виден ни в одной детали этого пространства.
Джон поставил на камень сумку, достал бутылку воды и протянул ей, улыбнувшись усталой, но честной улыбкой человека, который знает, что путь только начинается, но уже рад тому, что не одинок.
– Здесь мы можем остановиться, – сказал он. – Ты посиди, я посмотрю, нет ли в колодце воды. Иногда после дождей она поднимается.
– А если нет? – спросила Санадж, разглядывая круг старого кирпича, в который были вплавлены обрывки цветного стекла, блестящие на солнце.
– Тогда всё равно хорошо, – усмехнулся он. – Ты же чувствуешь, как здесь легко дышится? Не только потому что мы наверху, а потому что можно наконец перестать ждать удара.
Пока Джон осматривал колодец, Санадж прикрыла глаза и прислушалась к себе: боль в боку осталась, но уже не была враждебной, скорее оберегала от поспешных движений. Путь сюда оказался непростым – каждый шаг отзывался в теле тяжестью, а иногда и отчаянием, но она справилась. Она дошла, несмотря на рану, несмотря на усталость, и теперь в этом простом факте было что‑то почти утешительное, как доказательство того, что её силы хватит и на следующий шаг. Она думала о том, как мало на самом деле нужно для того, чтобы почувствовать себя в безопасности: сухой камень, чистый воздух, тень, которая не угрожает, а обнимает. Всё лишнее, что было важно в городе, теперь казалось беззвучным: ни письма, ни угрозы, ни воспоминания о бегстве не имели здесь власти, только она сама и этот новый, чужой, но уже почти родной ландшафт.
– Знаешь, – сказал Джон, возвращаясь, – здесь в детстве мы с друзьями устраивали ночёвки. Жгли костры, рассказывали страшные истории, думали, что если прятаться от взрослых, то страх исчезает.
– Исчезал? – спросила она с улыбкой, открывая глаза.
– Нет, – честно признался он, – но было проще, когда кто-то боялся вместе с тобой.
Они выпили воды, поделили остатки хлеба, тихо посмеялись над своим видом, и впервые за всё это время их смех не звучал вызовом судьбе. Санадж сняла платок, вытерла лицо, потом посмотрела на Джона и негромко сказала:
– Я думала, что если однажды придётся бежать, я не смогу доверять никому. Но сейчас… я рада, что ты здесь.
– Я тоже, – мягко ответил он. – Без тебя этот путь не имел бы смысла.
На вершине холма ветер разогнал остатки тумана, небо стало ярче, и на миг показалось, что впереди только свет. В этом свете, в этом покое Санадж впервые позволила себе подумать не о прошлом, а о том, как идти дальше: без спешки, без отчаянья, только вперёд, к тому месту, где можно снова стать собой – не заложницей чужого страха, не символом чужой вины, а просто женщиной, которая идёт сквозь боль, упрямо, честно, не пряча взгляд.
– Дальше лес, – сказал Джон, помогая ей встать. – Там много троп, можно выбрать любую. Главное – не оглядываться.
– Я больше не хочу оглядываться, – ответила Санадж.
Они сошли с вершины, шаг за шагом входя в мягкую тень деревьев, где жасмин уже не пугал, а лишь напоминал: боль – только запах, только память, только знак того, что путь продолжается.
Когда они свернули в тень первых деревьев, тропа медленно сузилась и исчезла в зарослях жасмина, среди которых укрылся дом, о существовании которого Санадж и не подозревала, он был будто нарочно спрятан от чужого взгляда, спрятан так тщательно, что казался частью ландшафта, чуть более сложным изломом линии, чуть большей темнотой в просвете между стволами. Дождь оставил на крыше глубокие лужи, крыша была наклонной, покрытой мхом, а старые черепицы местами сдвинулись, образовав щели, в которые затекал свет. Два окна, обращённые к востоку и северу, зияли пустотой, лишённые стекол, и лишь обглоданные временем рамы, выцветшие до призрачной бледности, были усыпаны прошлогодней листвой.
Дверь оказалась не заперта. Джон потянул за проржавевшую ручку, и она сдалась с тяжёлым скрипом – этот звук показался им громким, почти вызывающим, хотя вокруг не было ни одного живого существа, даже птицы, казалось, затаили дыхание, пропуская их внутрь. Дом был небольшим, одноэтажным, вытянутым вдоль склона; в его центре стояла старая, чуть покосившаяся печь, на полу лежал потёртый коврик с выцветшим узором, в углу громоздилась стопка полусгнивших досок, по стенам висели глиняные черепки, словно оставленные для ритуала, смысл которого утерян вместе с последними жильцами.
– Здесь никого не было уже много лет, – сказал Джон, осторожно проходя по скрипящим половицам. – Когда-то тут жил один старик, я помню, что он не разговаривал ни с кем из деревни. Иногда дети приносили ему хлеб и зелёный чай, а он взамен давал нам куски мыла с запахом ветивера.
– Тебе здесь не страшно? – спросила Санадж, проходя следом, внимательно вглядываясь в полумрак, где предметы отбрасывали неровные тени.
– Нет, – ответил он, и в голосе не было ни бравады, ни утешения, только спокойствие того, кто принял укрытие как дар, а не как ловушку. – В таких местах страх уходит вместе с суетой. Остаётся только настоящее: дом, в котором можно дышать и стены, которые не требуют ни объяснений, ни воспоминаний.
Санадж медленно опустилась на край ковра и устало прислонилась спиной к печи – от неё веяло холодом, но и какой-то старой, почти невидимой силой, похожей на то чувство, когда сидишь у очага, слушая, как где-то за стенами бушует мир, а здесь, в этом крошечном пространстве, всё упорядочено: дыхание, пульс, боль, мысли.
– Здесь пахнет плесенью, – сказала она, потянув носом, – и жасмином. Только этот жасмин уже не тот, что был в городе. Здесь он чище, немного горький, как трава после дождя.
– Это потому, что здесь никто не пытался прятать свой страх, – задумчиво произнёс Джон, опуская сумку на пол. – Дом принимает всё – и память, и усталость, и даже наше отчаяние.
Сквозь оконный проём в комнату заглядывал свет, чуть дрожащий, переломленный листвой. На полу бегали тени от ветвей, а на стене, где была глубокая трещина, проступала тонкая полоска солнечного блика, она двигалась медленно, как стрелка часов, невидимо отмечая время их присутствия здесь.
Они долго молчали: после города, после бега, после страха любая пауза становилась роскошью. Санадж положила ладонь на живот, где под повязкой тихо пульсировала боль, и вдруг почувствовала не только усталость, но и благодарность за дом, за тишину, за Джона, который не задавал вопросов, не спешил, не требовал.
– Мне кажется, – негромко сказала она, не открывая глаз, – будто мы зашли в другой мир, в котором нет места для вины, принесённой нами с города.
– Может, это и есть настоящее укрытие, – ответил Джон. – Там, где страх не правит, а только учит быть осторожнее.
Свет становился гуще, запахи ярче, время вязче. В этой вязкости наконец появилось пространство для медленного, настоящего дыхания, для того, чтобы снова ощутить своё тело не только как источник боли, но и как память, как дом для самого себя. Джон развязал узел на сумке, вынул небольшой мешок с сухарями и протянул Санадж.
– Ты должна поесть, – мягко сказал он. – Пусть это невкусно, но нужно. Иначе сил не хватит идти дальше.
– Я ем, потому что ты рядом, – ответила она. – В одиночку я бы не смоглапроглотить ни крошки.
Он сел рядом, прижавшись к стене, и какое-то время они ели молча, слушая, как где-то на чердаке шуршит, может быть, мышь, может быть, птица, но этот шум не пугал, а, напротив, делал пространство ещё более живым, включал их в новую жизнь, где никто не следит за каждым движением, где нет нужды делать вид, что ничего не болит.
– Когда нам придётся уйти отсюда, – сказала Санадж, доедая сухарь, – я хочу помнить не только дорогу, но и этот дом. Потому что он принял меня без вопросов.
– Я тоже, – тихо согласился Джон, положив ладонь на её плечо. – Иногда убежище важнее пути. Иногда его достаточно, чтобы решиться жить дальше.
В этот момент время перестало торопиться, дыхание стало глубже, а дом ещё роднее. За стенами гудел ветер, на крыше стучали последние капли дождя, а внутри впервые за долгое время царила тишина, которую не нужно было делить с болью или страхом.
После еды в доме стало ещё тише, будто каждый звук утих, растворившись в стенах, напоённых дождями и долгими годами одиночества. Санадж осторожно осмотрела комнату, прислушиваясь к лёгкому треску в печи. Она опёрлась спиной о стену, вытянула ноги и вгляделась в шероховатую поверхность досок: на одной из них кто-то вырезал рисунок – домик, солнце, несколько кривых букв. Было ясно, что это сделано детской рукой, может быть, ещё тогда, когда здесь жили, смеялись, надеялись на завтрашний день.
– Ты когда-нибудь мечтал остаться в таком месте навсегда? – спросила она, переводя взгляд на Джона, который потянулся, разминая плечи после долгого пути.
– В детстве да, – признался он. – Тогда казалось: стоит найти дом, где не слышно крика, где никто не гонится, и всё станет просто. Я представлял себе убежище, в котором не нужно быть ни сильным, ни слабым , можно просто быть.
– А теперь? – спросила Санадж.
Джон усмехнулся, не сразу отвечая. В его молчании не было ни печали, ни отчаяния, только взрослое понимание того, что даже самые лучшие мечты меняют облик.
– Теперь я знаю: дом – это не место, – наконец сказал он. – Это кто-то, кто видит тебя настоящим. Даже если ты сам ещё не разобрался, кто ты. Иногда дом – это просто комната, где не надо лгать, не надо прятать боль, где можно говорить глупости, не боясь быть непонятым.
Санадж наклонилась, подняла с пола высохший лист жасмина и покрутила между пальцами. Запах был почти неощутим, но даже эта тень аромата напоминала о чём-то важном – о детстве, о ритуалах, о том, что иногда именно остатки запаха держат сильнее, чем свежий цветок.
– В этом доме пахнет прошлым, – сказала она. – Но здесь нет страха. Даже боль моя стала другой. Она не требует защиты, она просто есть, как дождь за окном.
– Потому что страх остаётся снаружи, если впустить в дом честность, – тихо отозвался Джон. – Страшно только тем, кто не разрешил себе быть уязвимым.
Пауза, которую никто не пытался заполнить словами, была полна внутреннего движения: стены отражали их дыхание, старые предметы наполнялись смыслом, который ни одному чужаку не разгадать. Где-то на чердаке зашуршал зверёк, на этот раз, казалось, даже он не хотел тревожить покой.
– Я раньше боялась замедляться, – неожиданно для себя призналась Санадж. – Всё время казалось, что если остановишься, тебя настигнет нечто большее, чем просто страх: вина, память, чужой взгляд. Здесь, впервые за долгие месяцы, мне не хочется бежать.
– Это значит, что ты дома, – мягко сказал Джон. – Пусть даже ненадолго.
Он поднялся, прошёлся по комнате, остановился у полки с черепками, взял один из них, внимательно рассмотрел и поставил обратно. Его движения были неторопливы, будто каждое имело свою цель – не только сохранить покой, но и вписаться в пространство, не нарушая его тишины.
– Помнишь, как в детстве любили рассказывать истории о духах дома? – спросил он, улыбаясь чуть иронично. – О том, что если дом не тревожить, его дух будет охранять тебя от бед.
– А если тревожить? – улыбнулась в ответ Санадж.
– Тогда дух будет ворчать, но всё равно останется, – сказал он. – Потому что дом – это не только стены, это и память о тех, кто в нём был. Сегодня мы – часть этой памяти.
Сквозь проём окна в комнату потянуло влажным ветром, вместе с ним влетела горсть лепестков жасмина, рассыпаясь по полу светлыми пятнами. Санадж собрала их в ладонь и сложила на подоконник, словно дар этому месту, признание своей благодарности за время, в которое не нужно было быть никем, кроме себя.
– Когда-нибудь я тоже хотела бы оставить след, – тихо сказала она, глядя на полированный камень в центре печи. – Не только страх, не только боль, а что-то такое, что сможет согреть другого, если ему тоже будет нужно укрытие.
– Ты уже оставила, – уверенно ответил Джон, возвращаясь к ней. – Уже тем, что осталась, что не убежала вглубь себя, что дала себе передышку. Мы оба.
В этом доме всё звучало иначе: голоса не эхом, а продолжением внутренней тишины, смех не тревогой, а мягким напоминанием, что после любой ночи бывает утро. Они сидели рядом, не касаясь друг друга, но чувствуя близость так остро, как не чувствовали никогда прежде, близость, которая не нуждается в словах и доказательствах, а только в присутствии.
Время застывало в воздухе, лепестки жасмина покрывали пол, и даже боль перестала быть единственным содержанием мира, потому что здесь, среди древних стен, старая печь, детский рисунок и случайный гость стали не только частью истории, но и её продолжением.
Солнце быстро клонилось к закату, сквозь выбеленную оконную раму в комнату проникал длинный косой луч, освещая комья пыли в воздухе, рисуя на полу полосы, похожие на дорожные ленты. День уходил без спешки, позволяя каждому звуку – скрипу дерева, вздоху ветра в печи, мягкому шагу босых ног задержаться чуть дольше, чем это бывает в спешке города. Санадж присела ближе к окну, подперла подбородок рукой, и с лёгкой усталостью разглядывала залитую солнцем стену, на которой оживали узоры тени, там, где когда-то, возможно, висели детские рисунки, а теперь остались только воспоминания, хранящиеся в фактуре штукатурки.
Джон развёл на старой печи маленький огонь, не для тепла, а чтобы наполнить комнату светом, придать вечернему укрытию смысл настоящего дома. Он наломал сухих веток, найденных в сарае, аккуратно уложил их на решётку, и вскоре в комнате потянуло дымком, смешанным с тем же неизменным жасмином, который теперь стал скорее одеялом, чем тревогой. Свет от огня ложился на лица мягко, согревая не только руки, но и взгляд: глаза Санадж стали чуть светлее, на лице появилось то выражение, которое бывает только у людей, впервые за долгое время позволивших себе не ждать угрозы.
– Ты когда-нибудь думал, – спросила она, когда огонь уже весело трещал, – что самый большой дар – это просто тишина рядом с кем-то, кто не хочет тебя переделывать?
Джон задумался на мгновение, склонив голову.
– Наверное, в этом и есть смысл всех укрытий, – ответил он. – Не в том, чтобы спрятаться навсегда, а в том, чтобы однажды перестать бояться выйти наружу. Чтобы понять, что дом – это не стены, а та часть себя, которую можно не прятать даже в присутствии другого.
Она улыбнулась, чуть смущённо, как бывает у взрослых, которые вдруг вспоминают что-то очень детское и доброе. Огонь разгорался всё ярче, но в этом свете уже не было опасности, только мягкость и покой, которые бывают после долгого пути. На некоторое время они замолчали, слушая, как за стенами шелестит вечерний ветер, как где-то вдали по склонам ползут густые облака, а в саду под окнами, возможно, уже начинают распускаться ночные цветы.
– Здесь будто исчезает вся спешка, – сказала Санадж, обернувшись к огню. – Даже боль меняется: она не становится меньше, но перестаёт быть главным. Я впервые за много лет не чувствую себя только раненой или виноватой.
– Это твой дом, – тихо повторил Джон. – Пусть на одну ночь, пусть на одно утро, но он твой. И он нужен тебе не меньше, чем ты ему.
Пламя отбрасывало на стены тени, длинные и тонкие, которые то взлетали к потолку, то исчезали в углах, превращая всё пространство в странный театр жестов и ожиданий. Санадж прикрыла глаза, позволив себе вытянуться на полу, согнув ноги под себя, и впервые с момента ухода из города почувствовала, как тело становится её союзником, а не врагом. Джон тихо ходил по комнате, он нашёл у порога плетёный коврик, разложил его ближе к огню, и присел рядом, без лишних слов, но с таким доверием, что любое слово могло бы только нарушить эту хрупкую гармонию.