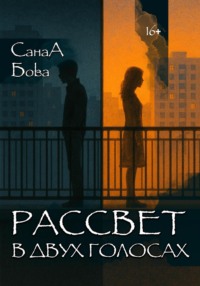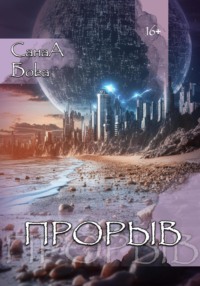Полная версия
Слёзы Индии
– Это не случайно. Уходить надо было днём.
Они собрались молча, набросали в сумку документы, деньги, накинули лёгкие куртки. Санадж в последний раз пробежала взглядом по комнате, взгляд задержался на чашке, из которой утром пила Лалита, на её сари, небрежно брошенном на спинку стула. Сердце ёкнуло, что-то внутри знало – она не быстро вернётся.
Они вышли на улицу. Сумерки уже легли на город, переулки тянулись гарью, где-то невидимо тлели костры. Воздух был тяжёлым, натянутым, как проволока.
Дорога к дому матери Лалиты заняла время. Город дышал жаром и пылью, под ногами шуршали влажные листья, из подворотен тянуло запахом мусора. Санадж и Джон шли молча, и каждый их шаг отдавался эхом, будто Мумбаи запоминал этот путь.
У старого дерева, где должен был стоять дом, царила тьма. Ни света, ни голосов. Дверь оставалась приоткрытой, и в темноте прихожей тянуло влажным деревом и прокисшим молоком.
Внутри было пусто. На столе стояла остывшая чашка, на полу лежала оброненная заколка. Лалиты не было.
Санадж остановилась посреди этой тишины, прислушиваясь к каждому шороху. В груди поднялась тяжесть вины, будто сам воздух давил изнутри. Руки дрожали, страх перемешивался со злостью, но слёз не было. Джон молчал, взгляд его скользил по стенам, будто он пытался найти тень, которой здесь уже не осталось.
– Мы вернём её, – сказал он наконец. Голос был хриплый, чужой. – Я клянусь.
Они стояли в чужом доме, под ветвями затихшего дерева, и впервые почувствовали, что город принял их всерьёз, требуя плату за каждый шаг и каждую ошибку.
Ночь сгущалась. Улицы были пусты, воздух дрожал от пыли и запаха жасмина, слишком резкого, будто принёсшего с собой беду. Джон и Санадж шли вдоль реки. В чёрной воде отражались обрывки неоновых вывесок и редкие фонари. Их шаги звучали гулко, и казалось, что город прислушивается.
Санадж прижимала кулон к груди, неосознанно, словно ребёнок, который держит в руках найденную в песке драгоценность. В этом движении смешивались вина, страх и тяжёлая надежда. Джон шёл рядом, его дыхание было резким, шаги сдержанными. В каждом его жесте чувствовалась готовность к борьбе.
Найти Лалиту в этом городе казалось невозможным. Они заходили в лавки, спрашивали у торговцев, показывали фотографию детям, игравшим в пыли, но всё было без толку. Люди отводили глаза, махали руками, прятались в тень, словно знали больше, чем могли сказать.
– Они уже в курсе, – тихо сказал Джон, остановившись у ржавых ворот в узком переулке. – Дальше дорогу покажут только те, кому это выгодно.
Он кивнул на закопчённую вывеску: Chowkidar: Pawn Brokers, Safe Storage. Маленькая дверь оставалась приоткрытой. Внутри пахло железом, мокрой солью и старой бумагой. За прилавком сидел сухой мужчина в белой рубашке и тонких очках. Его взгляд был тяжёлым, настороженным – таким смотрят те, кто хранит чужие тайны.
– Мы ищем Лалиту, – сказал Джон без лишних слов. Его голос прозвучал низко, словно гул далёких машин.
Мужчина не удивился. Он посмотрел сначала на Джона, потом на Санадж, стоявшую чуть в стороне. В комнате пахло сыростью и горьким чаем. За окном гудел Мумбаи, и вместе с ветром в щели пробивался запах жасмина.
– Здесь не задают вопросы бесплатно, – произнёс он мягко, но в его голосе слышалась острая кромка, будто скрытый нож.
Санадж шагнула вперёд. Пальцы её невольно сжались, и она почувствовала, как кожа саднит от давления.
– Назови цену, – сказала она. Голос звучал твёрдо, хотя внутри всё сжималось. – Деньги, имя – что угодно. Только скажи, где она.
Мужчина чуть наклонил голову. Его пальцы барабанили по столу, будто отмеряя время.
– Вопросы стоят дороже, чем ответы, – тихо сказал он. – Здесь ценят не только деньги. Здесь помнят долги.
Он сделал паузу, а потом кивнул в сторону боковой двери. За мутным стеклом колыхались тени.
– Ваша подруга – залог. Для вас есть послание: чтобы вернуть её, иди к мосту этой ночью. Там будет человек, говорящий за тех, кто выше. Приходи одна.
Холод скользнул в грудь Санадж, словно река за городом поднялась к её ногам. Она кивнула, не отводя глаз, хотя внутри всё стянуло ледяным узлом. Выбора не было.
– Если с ней что-то случится… – начала она, но мужчина уже отвернулся к бумагам. Её слова повисли в воздухе и растворились в тишине.
Они вышли на улицу. Ночной Мумбаи был похож на мираж: багровые вспышки рекламы отражались в лужах, редкие прохожие спешили по своим делам, а ветер приносил со станции то пение, то плач. Джон держал Санадж за плечо, иногда останавливался и внимательно вглядывался в переулки, где тени двигались, будто жили своей жизнью.
Они укрылись возле заброшенного лотка, от которого пахло прогорклым маслом и пылью. Джон остановился, кулаки его сжались, взгляд сузился.
– Это ловушка, – сказал он глухо. – Ты не пойдёшь туда одна.
Санадж замерла. Пальцы её машинально стиснули кулон, холодный металл впился в кожу. Страх сжал горло, но она коротко кивнула, не споря.
– Я иду с тобой, – добавил Джон. Его голос звучал жёстко, в нём слышалась злость, горячая, как воздух над улицами. – Они хотят играть по своим правилам? Мы тоже не будем честными.
Его решимость придавала ей силы, но страх всё равно не отпускал, скребя внутри. Город будто шептал, что каждая тень рядом могла обернуться угрозой.
У моста пахло ржавчиной и речной сыростью. С воды тянуло холодом, а вместе с ветром приходил резкий запах жасмина, знакомый, тяжёлый, будто знак беды. Железные перила гудели от порывов, дрожали, словно чувствовали шаги на мосту. Ночь стала вязкой, фонари горели неровно, их жёлтые круги колыхались в темноте, будто сам город задержал дыхание.
Они уже ждали. Мужчина в чёрном стоял у перил: невысокий, плотный, воротник поднят, лицо почти скрыто тенью. Только острый профиль и едва заметная улыбка проступали в полумраке. Рядом двое. Один теребил рукоять ножа, и лезвие то и дело ловило свет фонаря. Другой стоял у машины, руки в карманах, взгляд неподвижный, тяжёлый, словно ржавчина на железе.
Внутри автомобиля сидела Лалита. Сквозь мутное стекло виднелось её лицо: бледное, усталое, волосы спутаны, губы сухие. Она сидела, сгорбившись, и пальцами цеплялась за край сари, будто за последнюю ниточку, которая удерживала её в этом мире.
Санадж сделала шаг вперёд. Каждое движение отзывалось в висках тяжёлым биением, будто город бил в такт её сердцу. Усталость тянула вниз, но она выпрямилась. Пальцы невольно сжались, кожа саднила от давления. Страх поднимался холодной волной, злость толкала вперёд, дыхание сбивалось.
За её спиной стоял Джон. Плечи расправлены, кулаки сжаты, костяшки побелели. В его сдержанной неподвижности чувствовалась угроза – одно неверное движение могло сорвать её.
– Верни Лалиту, – сказала Санадж. Голос прозвучал резко, но в глубине дрожал.
Мужчина повернулся. Его взгляд скользнул по Джону, глаза сузились, блеснув в свете фонаря. Он сделал шаг ближе, ботинки хрустнули по гравию. От его одежды тянуло табаком, запах висел тяжёлым облаком.
– Я ведь просил, – протянул он с насмешкой. – Приходить одной.
Санадж усмехнулась коротко, почти дерзко.
– А я вижу, что ты сам пришёл не один, – ответила она. – Так что оставь разговоры о правилах.
Он хмыкнул. Улыбка скользнула по его лицу, но глаза оставались холодными, как сталь в руке его спутника.
– Напрасно взяла его с собой, – сказал он, кивая в сторону Джона. – Думаешь, он защитит? Нет. Он такая же пешка, как и ты.
Джон сделал шаг вперёд. Плечи напряглись, кулаки сжались ещё сильнее. Взгляд потемнел, дыхание стало резким, но он молчал, сдерживая ярость. Его присутствие ощущалось почти физически, как напряжение в воздухе перед ударом.
Санадж почувствовала этот жар, но не отступила. Она стояла твёрдо, даже когда внутри всё сжималось от страха.
– Замолчи, – бросила Санадж. Голос её прозвучал остро, будто лезвие. – Это между мной и тобой.
Мужчина прищурился. Усмешка стала шире, но в глазах промелькнул холод.
– Между нами? – переспросил он, слегка наклонив голову. – А ты помнишь, что тогда случилось? – его слова ударили, как порыв ветра, принёсший запах табака. – Или вычеркнула всё, как ненужную строчку из книги?
Санадж замерла. Пальцы её невольно сжались, боль в коже отозвалась резким толчком. Сердце сжалось, дыхание сбилось, но она встретила его взгляд и удержалась.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.