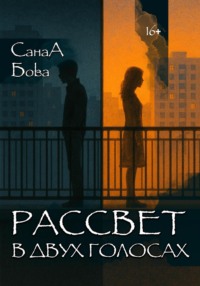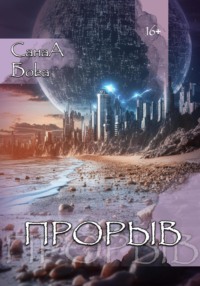Полная версия
Слёзы Индии
Санадж чувствовала, как её трясёт, как слова проникают под кожу, как простая фраза «завтра будет поздно» вдруг становится предвестием беды.
Когда Джон вернулся, на нём будто бы не было следов дороги, только тень усталости в глазах и несмываемая тревога на лице. Он вошёл бесшумно, словно был частью этой комнаты с самого начала.
Санадж сидела на полу, босиком, в простом домашнем платье, с чашкой чая, который давно остыл. На столе рядом лежал кулон. Она подняла голову, увидела его, и не удивилась. Просто вздохнула, как человек, к которому пришёл ответ, пусть и не тот, которого он ждал.
– Они были здесь, – тихо сказала она. – Кто-то приходил.
Он сел рядом, но не сразу, сначала постояв у окна, как бы проверяя – всё ли ещё на месте.
– Жасмин – это знак, – сказал он. – У них так принято. Если ночью тебе приносят цветы – значит, пришло время платить.
Она замерла, и неуверенно переспросила:
– Платить?
– За прошлое. За молчание. За то, что ты всё ещё жива, – он произнёс это спокойно, без пафоса, как будто констатировал погоду. – У таких людей ничего не забывается. И ничего не прощается. Долг может ждать годами, а иногда десятилетиями.
Санадж сжала чашку чуть крепче, фаянс тонко хрустнул в пальцах, но она не заметила.
– А если я… не хочу? – сказала она медленно, словно пробуя эти слова на вкус. – Если я не принимаю их правила?
Джон чуть качнул головой, мягко, будто говорил с ребёнком, упрямо закрывшим глаза перед движущейся машиной.
– Тогда долг забирают не у тебя, – ответил он. – А у тех, кто рядом.
Комната сжалась, стало тесно, даже между словами. За окном загудела машина, где-то на лестнице хлопнула дверь. Они оба не пошевелились.
Санадж опустила взгляд на кулон. Пальцы дотронулись до цепочки, осторожно, как будто та могла обжечь.
– Это ведь всё из-за него, да? – прошептала она. – Этот камень, эта трещина. Это ведь не просто украшение. Это… что?
– Это ключ, – ответил он. – Или замок. Зависит от того, кто держит.
Она долго молчала, а потом подняла на него глаза – ясные, тревожные, без маски.
– Ты не обязан здесь быть, – тихо сказала она. – Всё можно прекратить. Сейчас. Уйти, и забыть, что мы вообще пересеклись.
Он усмехнулся. Не сразу, с лёгкой горечью, как человек, которому уже давно не нужно объяснять, что «прекратить» – не значит «исчезнуть».
– Я уже слишком далеко зашёл, чтобы уйти, – сказал он, и взгляд его на миг стал жёстким. – И, честно говоря… если бы ты не держала этот кулон, всё было бы проще.
Он отвернулся к окну, где вдалеке мерцали огни.
– Но теперь ты не одна, – добавил он после паузы. – И это уже нельзя развязать, как узел. Только прожить.
Она ничего не ответила, просто слегка сдвинулась ближе. Не коснулась, не спросила, а просто дала понять, что услышала. Всё.
В ту ночь они не спали. За стенами кто-то ждал утра, кто-то боялся, что оно вообще не наступит.
Санадж лежала на кровати, сжимая кулон в ладони, и думала, что когда всё закончится, она напишет книгу о том, как училась не бояться, как искала любовь в городе, где никто не спрашивает, и где каждый шёпот на ветру может оказаться последним.
Вторая ночь в новой квартире тянулась бесконечно. Сквозь тонкие стены доносились споры соседей, где-то в глубине коридора залаяла собака, раздался чей-то громкий крик, но всё это было только фоном для главного – страха, который поселился между ней и Джоном, делая каждый звук значимым, каждый шорох опасным. Санадж чувствовала, как с наступлением темноты город словно уменьшился, сжался, стал камерой, из которой нельзя выйти.
Джон устроился у окна, не зажигая света. Его глаза привыкли к темноте, движения были медленными, контролируемыми, так двигаются только те, кто много раз сталкивался с опасностью. Санадж пыталась читать, писать что-то в записной книжке, вспоминала прошлое, но мысли то и дело возвращались к кулону, к словам незнакомки: «Завтра будет поздно». Она ловила себя на том, что почти ждёт чего-то неизбежного, как будто любая осторожность всё равно не поможет.
Ближе к полуночи в подъезде послышались чужие шаги. На лестнице кто-то о чём-то спорил, хлопнула дверь, затем наступила короткая, слишком тяжёлая тишина. Джон встал, жестом велел ей молчать, а сам подошёл к двери, и замер.
Раздался новый стук, не робкий, не просящий, а властный, размеренный. Затем кто-то провёл по двери ногтем, как будто отмечал время или вырезал на ней невидимый знак.
– Откройте. Полиция, – голос за дверью был уверенным, но в нём слышалось что-то чужое, натянутое.
Они не открыли.Джон посмотрел на Санадж, она только качнула головой. Не было ни формы, ни удостоверения, ни хотя бы тени настоящей официальности в интонации незнакомца.
За дверью что-то шевельнулось, несколько секунд царила настороженная тишина, а потом – короткий, злой удар в замок. Джон быстро задвинул дополнительную задвижку, велел Санадж забраться в ванную и не выходить, что бы ни случилось. Она подчинилась – сердце стучало глухо, в руках всё ещё был кулон, и он теперь казался ей не оберегом, а тяжёлым грузом, якорем, за который можно ухватиться, чтобы не сойти с ума.
В ванной пахло хлоркой, на полу валялись куски штукатурки. Сквозь дверь она слышала сдержанные голоса, короткие команды на чужом языке, потом звук, будто нож прошёлся по металлу.
Санадж сидела на холодном кафеле, вспоминая: вот она – девочка на ступеньках родного дома, мама шепчет ей на ухо сказки о духах, отец смеётся, а в окне уже темнеет и пахнет жасмином. Вот она – взрослая, в парижском метро, впервые решившая не подчиняться чужой воле. И вот сейчас: почти никто, почти призрак, с горящими от страха глазами.
Джон стоял на пороге, лоб рассечён, губы сжаты.Вдруг всё стихло. Несколько минут тишины, потом дверь ванной распахнулась.
– Уходи через окно, быстро. Они могут вернуться.
Она послушалась без споров, открыла узкое окошко на задний двор, и выползла наружу, поцарапав руки. Внизу, в тени мусорных баков, пахло тиной, гнилью, ночным Мумбаи. Джон последовал за ней, помог слезть с подоконника.
– Вставай, – хрипло сказал он. – Дальше только пешком.
Они шли по переулкам, не оглядываясь, пока не оказались на окраине, там, где улицы становились шире, люди реже, а свет фонарей – тусклее.
В этот момент Санадж почувствовала, как по её щекам текут слёзы, не от боли, не от страха, а от тяжёлого, чёрного облегчения – она жива, рядом есть тот, кто не предал, и, быть может, ещё не всё потеряно.
Они сели на скамейку у дороги, и отдышались. Джон вытер кровь со лба, и устало улыбнулся:
– Прости. Не думал, что будет так быстро.
– Я не боюсь, – сказала она, – только устала.
– Страх нужен, – ответил он. – Без него не бывает побед.
В эту ночь они не спали, а дожидались рассвета, сидя рядом, плечом к плечу. Мимо проезжали автобусы, скрипели повозки, ветер приносил запах рыбы и морской соли. Всё это было вдруг до невозможности реально: их усталые тела, синяки на руках, потёртая цепочка кулона, который теперь горел на шее, как крошечный маяк.
Санадж думала, что напишет об этом утре когда-нибудь, если выживет, если доберётся до того места, где снова можно будет смеяться.
В какой-то момент она уснула прямо на его плече, впервые за долгое время не проснувшись от кошмара.
На рассвете город встретил их неожиданной пустотой, казалось, Мумбаи на несколько часов сбросил с себя привычную кожу уличного шума и стал похож на старую фотографию, где всё застыло в предчувствии перемен. Они шли по широкой дороге вдоль канала, мимо заброшенных фабрик, ржавых ворот, усыпанных лепестками старых жертвоприношений. Воздух был тяжёлый, солёный, пахнул рыбой и сыростью. У каждого встречного был взгляд, который будто бы скользил по ним, не задерживаясь, как у людей, давно привыкших не вникать в чужие истории.
Санадж молчала, цепляясь за рукав Джона, и стараясь идти ровно, не показывать усталости. Он тоже был непривычно молчалив, только изредка кидал короткие взгляды по сторонам, оценивая обстановку, иногда кивал, будто что-то отмечая для себя.
На втором перекрёстке им повстречался старик. Он сидел на корточках у двери маленькой чайной лавки, и чистил ногти острым перочинным ножом. Когда Джон спросил его о ночлеге, старик лишь покачал головой, а потом вдруг медленно поднялся, и посмотрел прямо на Санадж. В его взгляде было нечто знакомое, ни страха, ни подозрения, только усталое понимание, будто он уже знал, что им придётся пережить.
– Если ищете, где спрятаться, – хрипло сказал он, – идите за мной. Здесь не спрашивают, кто вы и почему. Главное – не заглядывайте никому в глаза и не называйте своё имя.
Они молча последовали за ним через тёмный двор, вдоль стены с облупленной синей краской, пока не оказались в крошечной комнатке на втором этаже, где пахло карри и каким-то горьким, давно забытым лекарством.
Старик поставил на стол чашки с чаем, насыпал риса, а потом вышел, не закрыв дверь. Всё это было так буднично и просто, что Санадж впервые за много дней позволила себе выдохнуть. Она откинулась на стену, сжала кулон в руке, и посмотрела на Джона:
– Ты доверяешь ему?
– Нет, – просто ответил он, – но сейчас у нас нет другого выбора.
Она кивнула. Некоторое время они молча ели, пытаясь согреться, прийти в себя, собраться с мыслями.
Санадж вдруг вспомнила другую кухню, в детстве, где мать на рассвете варила сладкий рис и тихо пела, чтобы не будить остальных. Вспомнила голос бабушки, всегда повторявшей: «Самое главное – помнить, кто ты, даже когда тебе приходится прятаться». В этой тесной, сырой комнате она впервые поняла, что память – не только слабость, но и оружие, если научиться не отрекаться от себя.
Вскоре в дверь постучали. Джон мгновенно напрягся, положив руку на колено так, будто готовился к броску. На пороге стояла женщина среднего возраста, с лицом, которое сразу забываешь, но взгляд её был цепким, оценивающим. Она говорила на смеси хинди и английского, быстро, будто боялась упустить даже секунду.
– Меня зовут Лалита, – сказала она, – я работаю на тех, кто защищает чужие границы. Старик попросил меня помочь. Вам нельзя здесь долго оставаться.
Она взглянула на кулон, который мелькнул у Санадж из-под рубашки, и едва заметно нахмурилась:
– Это не просто украшение. Такие вещи открывают двери, но иногда и подставляют. Вас ищут не только из-за книг и прошлого. Вас ищут по крови.
Джон молча выслушал, потом спросил:
– Мы можем доверять вам?
Лалита усмехнулась:
– Я не продаю доверие. Я просто делаю то, что должна. Ваши враги – не только люди. Это система. Здесь всё держится на фамилиях, клятвах и проклятиях. Вы или станете частью, или исчезнете.
Санадж внимательно смотрела ей в глаза. В этот момент она почувствовала, что всё происходящее – не только история бегства, но и испытание. Здесь, в городе, где никто не спрашивает, даже самые простые встречи становятся проверкой.
– Почему вы помогаете нам? – наконец спросила она.
– Когда-то кто-то помог мне, – коротко ответила Лалита. – Иначе не выжить.
Они обсудили дальнейший путь, оставаться на месте было невозможно, мафия отслеживала все перемещения, использовала своих людей в полиции, больницах, даже среди уличных торговцев. Лалита предложила перебраться в пригород, где можно на время затеряться среди миллионов лиц.
Когда женщина ушла, Джон устало улыбнулся:
– Это как шахматы, мы не знаем, кто пешка, а кто ферзь.
– Главное – не стать жертвой в чужой игре, – ответила Санадж.
В тот вечер они долго молчали, слушая, как за окном шумит город, как ветер гонит мусор по асфальту, как кто-то где-то смеётся, не зная, что где-то рядом решается чья-то судьба.
Перед сном Санадж открыла старую записную книжку и впервые за много дней написала несколько строк:
«Когда тебя не спрашивают, тебе приходится отвечать самому. Когда теряешь всё – главное не потерять себя.»
В эту ночь ей снилось, что она идёт по лабиринтам Мумбаи, сквозь тени, запахи и шёпоты, и у каждого перекрёстка её ждёт чей-то знакомый голос – то ли матери, то ли Джона, то ли самой судьбы.
Переезд оказался тяжёлым и бессмысленно мучительным – жара, пробки, гудки мототакси, чьи-то крики на рынке, треск автобусов, гудки, царапающие по ушам, как стекло. Лалита раздобыла для них старую машину, ржавая «Амбассадор» с полуслепыми фарами, задние сиденья были залиты солнцем, пахло кожей, потом, корицей и, странно, старыми журналами.
Санадж смотрела в окно, стараясь не встречаться глазами с прохожими, она не знала, что страшнее быть увиденной или не быть замеченной вовсе. Всё в дороге казалось зыбким, безвременным, мимо тянулись холмы с лачугами, по грязным дворам бегали босоногие дети, тучи птиц кружили над базаром. Иногда взгляд цеплялся за детали – вывеску на хинди, разбитое окно, чей-то лоток с амулетами, и всё это складывалось в странную, зыбкую мозаику города, который был одновременно всем и ничем.
Джон не говорил почти всю дорогу. Только время от времени прикасался рукой к её плечу, словно хотел убедиться, что она не исчезла, что всё ещё рядом. Иногда он просил Лалиту притормозить, чтобы поменять маршрут, чтобы запутать возможную слежку. На перекрёстках он разглядывал лица прохожих, искал знакомые черты, пытался предугадать, кто из них опасен.
Санадж чувствовала, что страх возвращался волнами. Каждый раз, когда машина останавливалась, ей казалось, что вот-вот откроется дверь и войдёт кто-то, кто всё объяснит, заберёт кулон, заставит сдаться. Но никто не входил. Только Лалита время от времени бросала через плечо короткие, сухие фразы:
– Ваши враги не умеют ждать. Но они умеют запоминать. Всё, что видят их люди, становится частью большой книги.
– Какой книги? – спросила Санадж, не выдержав.
– Той, которую пишут все семьи, – отозвалась Лалита, не глядя на неё. – Здесь никто не забыт, пока о нём помнят по имени и по долгу. Ты думаешь, кулон – это просто знак? Нет, это твоя фамилия, твой долг, твой крест.
Машина ехала долго, казалось, прошла вечность. Когда наконец остановились, уже смеркалось. Пригород встретил их влажным, солёным ветром, запахом водорослей, треском сверчков и почти полной тишиной. Здесь не было ни базаров, ни гудков, ни суеты. Дома стояли низко, дворы заросли травой, из окна в окне мелькали тени. Всё выглядело спокойно, но в этой тишине ощущалась опасность – любая деталь могла быть знаком, любая встреча – ловушкой.
Их поселили в доме Лалиты, на втором этаже, в маленькой комнате с облупленной мебелью и старым вентилятором. Джон первым делом закрыл ставни, проверил замки, посмотрел, где можно спрятаться в случае опасности.
Санадж попыталась умыться, вода текла тонкой струёй и пахла железом. Она смотрела на своё отражение в мутном зеркале и вдруг почувствовала, что больше не знает этого лица: тёмные круги под глазами, исцарапанная шея, усталость, которая просачивалась во всё – в походку, в голос, в жесты.
Вечером, когда они остались вдвоём, между ними разгорелся первый по-настоящему острый спор.
– Мы не можем прятаться вечно, – устало бросила Санадж, – это не жизнь, а тень. Я не хочу больше бежать.
– Ты думаешь, у нас есть выбор? – в голосе Джона впервые появилась раздражённая нотка. – Всё, что происходит, – не просто твой выбор. Ты не одна. Любая твоя ошибка – риск для всех.
– Так, может, лучше уйти одной? Отдать этот чёртов кулон и всё закончить?
– Думаешь, этим всё кончится? – Джон шагнул к ней ближе. – Ты не понимаешь, как они работают. Им не нужен твой камень. Им нужна ты – как символ, как предупреждение, как плата за то, что однажды кто-то не выполнил долг.
– Почему именно я? Почему не ты, не Лалита, не кто-то из их собственных людей?
– Если верить словам Лалиты, у них к тебе личный интерес, к тому же ты чужая. Ты пишешь, ты не умеешь молчать.
Санадж отвернулась, и долго смотрела в окно.В эти секунды между ними повисла тяжёлая, болезненная тишина. За окном скрипела ветка, в комнате пахло пылью, и, казалось, весь воздух дрожал от невысказанных слов.
– Я устала быть символом. Я хочу быть просто человеком, – прошептала она наконец.
– Значит, будем учиться жить заново, – тихо ответил Джон.
И на этом всё кончилось – не спор, не страх, а короткая вспышка честности, на которой и строится доверие.
В ту ночь она долго не могла заснуть, вслушивалась в новые звуки – шум травы, шёпот дождя, чей-то далёкий смех. Сон пришёл только под утро, короткий, тревожный. Ей снилось, что она идёт по длинному коридору, стены которого усеяны чужими именами, а на полу – кулоны, разбросанные как лепестки жасмина. За ней кто-то идёт, не называя себя, и шёпот ветра кажется всё громче.
Проснувшись, она поняла, что ничего не кончилось. Борьба только начиналась.
Весь следующий день Санадж провела в состоянии растянутого напряжения, как натянутая струна, которая ещё держит тон, но вот-вот лопнет. Дом Лалиты был наполнен простыми предметами: стеклянная бутылка с нефильтрованной водой, хлопковые покрывала, обшарпанный письменный стол с древней машинкой, где строчками были выбиты чужие имена и даты. На кухне с утра стоял аромат имбиря, кинзы, жареного теста – запахи, смешавшиеся с городом и его неразговорчивой тревогой.
Санадж мыла посуду под тугой, ржавой струёй, когда за её спиной возник Джон. Он был непривычно тих, только взгляд выдавал, что ночь не отпустила его.
– Ты спала? – спросил он.
Она только покачала головой, бросив влажную тряпку на край раковины.
– Мне снились чужие имена, – тихо сказала Санадж, не отрывая взгляда от окна. – Женщины в белых сари, у каждой был кулон, похожий на мой. В руках письма без обратного адреса, и голос, всё время шепчущий: «Запомни, пока не поздно».
Джон не ответил сразу. Он медленно сел на корточки у стены, сложил руки на коленях, чуть опустил голову, будто собирался с мыслями. Потом поднял на неё спокойный, но внимательный взгляд.
– Это тоже часть игры, – сказал он. – Ты думаешь, это просто сон, но они знают, как действовать на людей. Знают, какие образы работают, какие слова врезаются в память.
Она нахмурилась:
– Ты хочешь сказать… они как-то управляют этим?
– Не буквально, но они умеют давить – тихо, точно, долго. Запахи, звуки, знаки, случайные фразы. Они знают, что и где запустить, чтобы твой мозг сам начал достраивать остальное.
– Психологическое давление?
– Да, – кивнул Джон. – Это не угроза в лоб, это гораздо тоньше. Они заставляют тебя сомневаться в себе, вспоминать то, что ты пыталась забыть, видеть знаки там, где их, может быть, и нет, а потом ты сама начинаешь искать ответы. А когда начнёшь – уже не остановишься.
Санадж замолчала. Она посмотрела на кулон, потом на Джона, будто впервые за долгое время смотрела не просто на союзника, а на того, кто по-настоящему понимает, что с ней происходит.
– То есть, всё это… не случайность?
– Здесь нет случайностей, – мягко сказал он. – Особенно, если ты носишь то, что кто-то когда-то хотел стереть из истории.
Он выпрямился, и прошёлся по комнате, будто проверяя, всё ли на месте. Потом остановился у окна.
– Они умеют сделать так, чтобы ты захотела им поверить.
Санадж медленно кивнула.
– Тогда мне действительно нужно помнить. Пока не поздно.
Он обернулся к ней:
– Главное – помнить, где заканчивается их игра и начинается твоя история. Только это держит тебя в живых.
Сквозь открытую дверь кухни донёсся звук – Лалита громко хлопнула ступкой, перемалывая специи. По двору босиком прошла соседская девочка с белой лентой в волосах, неся корки хлеба в тряпичном узле, и поглядывая на дом исподлобья. Всё казалось слишком обычным, но именно в этой обыденности теперь пряталась угроза.
В обед позвонили из лавки на углу, Лалиту срочно вызывали, сказали, что кто-то пришёл, спрашивал «насчёт чужой книги и женщины с кулоном». Лалита ушла быстро, натянула на плечи платок, взяла с собой телефон, хотя обычно им почти не пользовалась. Она долго не возвращалась.
Санадж не находила себе места. Она то выходила на балкон, то садилась у окна, то перебирала письма, то просто стояла, прижав кулон к губам, будто ожидая, что тот ответит ей чем-то кроме глухого, привычного холода. Джон следил за улицей, проверял замки, несколько раз говорил по телефону на незнакомом ей языке.
Вечером вернулась Лалита, быстро, молча, с пепельным лицом. Она даже не сняла сандалии, села на диван, склонилась вперёд, сжала руки в кулаки.
– Это была проверка, – сказала она наконец. – Они знают, что вы здесь. Они пришли не ко мне, а к моей матери.
– Что сказали? – спросил Джон.
– Сказали, что если «гостья» не отдаст то, что не принадлежит ей, начнут исчезать те, кто её прячет.
Санадж почувствовала, как её руки похолодели, кулон впился в ладонь, как шип. В этот момент она увидела, как страх Лалиты впервые просочился наружу, не тот страх, который легко спутать с осторожностью, а настоящий, животный, который разрушает любую броню.
– Я не хотела втягивать тебя, – тихо сказала она.
– Ты уже часть этого круга, – устало улыбнулась Лалита. – Если бы не ты, была бы другая женщина, другой долг. Здесь так – один всегда платит за многих.
Санадж села рядом, и взяла её за руку. Впервые за все дни она почувствовала, что может быть нужна, а не только спасена.
На улице началась гроза. Молнии били в реку, вода на дорогах покрылась жирной радужной плёнкой. Вдалеке раздался звук сирен, словно кто-то уже спешил на место будущей трагедии.
Вечером к дому подошёл мальчик лет двенадцати, босой, с исцарапанными руками, из одежды на нём был только обрывок школьной рубашки. В руках он держал свёрнутый в трубку лист бумаги.
– Мадам Санадж? Вам письмо, – прошептал он и сразу бросился прочь, даже не взяв монеты.
Письмо пахло сладким дымом и влажной бумагой, а написано было корявым, подобно детскому почерком, но смысл был ясен:
«С возвращением. Время платить по старым долгам».
Джон сжал письмо в кулаке, и разорвал на куски.
– Им важно не только запугать, – сказал он. – Им нужно, чтобы ты сама стала частью этой игры.
Санадж молчала. Она не плакала, не дрожала. Только смотрела, как по стеклу ползут капли дождя, как город теряет форму, становясь одним большим пятном. Внутри, где-то очень глубоко, нарастала странная ясность – больше не будет ни бегства, ни просьб, ни надежды на пощаду.
В ту ночь, когда гроза затихла, а город окутала вязкая темень, Санадж и Джон сидели вместе на полу, прислонившись спинами к стене. Он посмотрел на неё, мимолётно, с тёплой искрой, впервые открыто.
– Я не позволю им тебя забрать, – сказал он глухо.
– Мы оба не позволим, – ответила она.
Они долго молчали. Между ними, как обет, повисла фраза: никто не исчезнет один.
В этот момент дверь хлопнула на ветру, или показалось, но оба были готовы. За окном снова начинался дождь, и каждый удар капель по крыше казался отсчётом нового этапа в их жизни.
С утра в доме стояла гнетущая тишина. Лалита ходила по комнатам, будто искала потерянные вещи – то открывала шкатулку с семейными фотографиями, то поправляла вазу на столе, то беспорядочно перебирала сушёные лепестки жасмина в тряпичном мешочке. Она не сказала ни слова о ночном письме, только иногда бросала на Санадж быстрые, тяжёлые взгляды.
Санадж стояла у окна и следила, как рассвет вползает в переулки, размывая границы между домами, стенами и дорогой. Во дворе играли двое детей, их смех казался слишком звонким, фальшиво чистым для этого утра. Джон сидел на стуле в углу, небрежно держал в руках старый мобильный, иногда набирал чей-то номер и тут же сбрасывал, будто проверяя, живы ли ещё их связи.
В полдень Лалита сказала:
– Мне нужно к матери. Она ждёт меня, боится оставаться одна.
Голос её дрогнул, но она улыбнулась, пытаясь скрыть волнение.
– Я пойду с тобой, – сразу отозвалась Санадж.
– Нет, – тихо покачала головой Лалита. – Лучше останься здесь, с Джоном. Сегодня небезопасно на улицах, особенно для тебя.
Она обняла Санадж крепко, по-матерински, задержавшись чуть дольше обычного, потом быстро ушла, оставив за собой легкий запах сандала и тревоги.
Весь день воздух был вязкий, к полудню город накрыла духота, будто небо опустилось ниже, чем обычно. Санадж с Джоном пили сладкий чай, почти не разговаривали, слушая, как за окном редкий транспорт вяло катил по влажному асфальту.
Во второй половине дня всё изменилось. Сначала исчезла связь, телефон Санадж показал «нет сети», а затем и мобильник Джона не смог дозвониться ни по одному номеру. В доме становилось всё тише, ветер прижимал двери, а на улице вдруг воцарилась необычная пустота, даже дети куда-то исчезли, затихли собаки.
– Лалита не вернулась, – шепнула Санадж, посмотрев на часы. Было уже за шесть вечера.
Джон выругался вполголоса, бросил взгляд на окно.