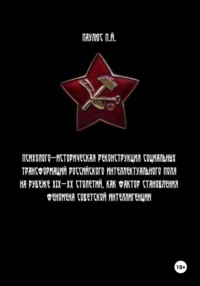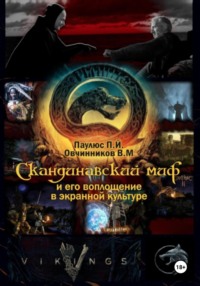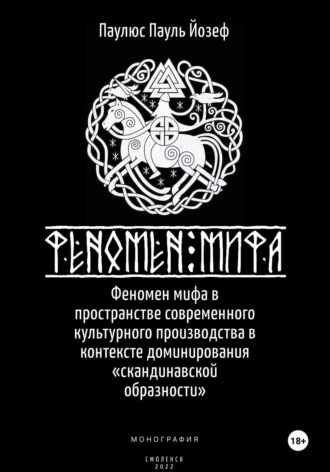
Полная версия
Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности»
Ритуалистическая концепция традиционно связывается с трудами Дж. Фрезера и Д. Харриса, которые развивают идею приемлемости выведения сущности мифа из ритуальной практики, проистекающей из утилитарных потребностей первобытного человека, тесно связанной с обрядовостью и магией, формирующихся под влиянием познавательных способностей членов социума и их воображения. При этом подобные прагматические цели, возникающие задолго до оформления первых анимистических представлений, были связаны, по мнению ритуалистов, с попытками установления контроля над природным силами, используя магию и ритуал в качестве инструментария манипуляции «Космосом и Хаосом». При этом под ритуалом понимается символическое действие, пробуждающее к жизни магические силы, которые являются средством воздействия человека на мир, из чего в частности Дж. Фрезер выводил принцип приоритета ритуала над мифом, демонстрируя в своем творческом наследии внимание к следующим проблемам: соотношение первобытной магии и мифологии, природа тотемизма и анимизма, влияние на массовое сознание культа плодородия.
Древнейший человек, инстинктивно разыскивая фундамент для выстраивания собственного мышления эмпирическим путем, пытался познать природу причинности, применяя магию в качестве инструментария, не имея при этом возможности разграничить субъективную ассоциацию идей от объективной причинной связи явлений240. Оформляющееся «магическое мышление», как именовал его Фрезер, базируется на ряде принципов, лежащих в основе магии: причинность и следствие уподобляются друг другу, как и контагиозность, то есть существование универсальной связи между комплексом аналогичных предметов, на которые воздействует человек посредством магического ритуала, создавая иллюзию манипуляции различного рода объектами – трансформацию мироздания241. Фактически «…в основе как магии, так и науки лежит твердая вера в порядок единообразия природных явлений. У мага нет сомнения в том, что одни и те же причины всегда будут порождать одни и те же следствия, что совершение нужного обряда, сопровождающееся определенными заклинаниями, неизбежно приведет к желаемому результату, если только колдовство не будет сведено на нет более сильными чарами другого колдуна»242.
Абсолютизируя познание, ученый приходит к выводу, что в равной степени магия и наука «открывают перед тем, кто знает причины вещей и может прикоснуться к тайным пружинам, приводящим в действие, огромный и сложный механизм природы, перспективы, кажущиеся безграничными. Отсюда та притягательность, которой обе обладают для человеческого ума, и тот мощный стимул, который она дала накоплению знаний»243. «Магия была дочерью заблуждения и одновременно – матерью свободы и истины»244.
В своей работе «Золотая ветвь» он отмечает: «Миф о гибели Вирбия под копытами коней был, вероятно, придуман для того, чтобы сделать понятным отдельные стороны его культа, такие, например, как запрещение вводить в священную рощу лошадей»245, поясняя также, что у архаического человека в принципе отсутствует представление о бесконечности времени. В этом утверждении, к слову, имеется определенный диссонанс246. Так, наблюдая за процессами в окружающем мире, человек различает процессы циклические и конечные. К первым относятся не только законы природы (рождение – взросление – старость, смена времен года), но и жизнь отдельно взятого архаического культа, привязанного к аграрным чередованиям и охотничьим условиям. Ко вторым же относится смерть и скоротечность жизни в принципе247. Совместить и примирить эти два вида процессов в рамках одного представления о времени, конфликт которых обуславливался страхом неизвестного, невозможно, однако концепт цикла, как символ ритуального действа, прослеживающийся в рамках заупокойного культа, решает возникающую перед человеком проблему, внося в миф наряду с фаталистическим элементом значительную долю провиденциализма, что прослеживается в большинстве мифологических систем. Выясняется, что и подлунный мир, и мир богов в том числе преходящи, вечен же только мир мертвых. Эти представления реализуются, в частности, в эддическом корпусе в контексте теории исторического круговорота248.
Дж. Фрэзер, наглядно продемонстрировав влияние ритуала на феномен социогенеза, доказал, что анимистическая стадия лишь один из этапов развития культуры и мифотворчества. В целом ученый выделял в развитии культуры и, соответственно, мифотворчества три базовых этапа, связанных с различными типами мировоззрения: магическое, религиозное и научное. Рассматривая проблему соотношения ритуала и мифа, можно заметить, опираясь на труды Фрейзера, что обе обозначенные категории развиваются из единого источника, базирующегося на границе биологического и социального, лежащего в основе культурного ландшафта. Соответствующий тезис условно можно трактовать в качестве высшей точки развития английской эволюционной этнографии, повлиявшей на становление ритуализма, функционализма и структурализма.
Стоит заметить, что природа эсхатологической традиции в рамках мифологического сознания существенно отличается от этого же концепта в более сложной монотеистической традиции, что связано с различным восприятием времени и его ретроспективы, то есть исторического процесса. Очевидно, что тема конца истории возникает на сравнительно позднем этапе эволюции мифологических систем и испытывает сильное влияние складывающихся религиозных традиций, причем весьма показательно, что описание гибели мироздания, включая богов и людей, наиболее четко очерчено именно в рамках индоевропейской мифологической традиции, наилучшим примером чего служит германо-скандинавская система, в рамках которой мотивы универсальной эсхатологии занимают центральное место249. Подобное сведение специфики мифа к ритуальным действиям впоследствии подвергалось критике со стороны многих исследователей мифологии. В частности, Е.М. Мелетинский в «Поэтике мифа» пишет: «Тезис о примате ритуала над мифом и об обязательном происхождении мифа из ритуала недоказуем и в общем виде неоснователен… Ритуализм… неизбежно ведет к недооценке интеллектуального, познавательного значения мифа»250. Для трактовки эсхатологии в мифологическом сознании характерен, по выражению Е.М. Мелетинского, «определенный зеркальный параллелизм с космогонией, которая описывается как переход от первоначального хаоса к упорядоченной благоустроенной вселенной в форме борьбы с хтоническими силами. История мира – вечная борьба между Космосом и Хаосом, олицетворениями порядка и стихийности, неупорядоченности. В эсхатологическом сценарии процесс космогонии приобретает обратную направленность, что проявляется возрастанием Хаоса и предельным обострением существующих в мире противоречий»251.
В силу этого эсхатология в мифе не вписывается в рамки линейного восприятия истории, формируя особое восприятие мировой процессуальности, ориентированной на циклизм, вечность и возобновляемость Вселенной. Признание конечности мира связано с его периодической воспроизводимостью после катастрофической гибели252.
Качественно другой характер носит историческая эсхатология монотеистических религий, которая ведет отсчет не от «начала мира», а от осевых, ключевых моментов истории человечества. Еще одной чертой, характерной для природы эсхатологии в мифологическом сознании, является «персональность», по выражению Е.М. Мелетинского253, ее образов, раскрытие будущего конца мира как цепи индивидуальных, конкретно исторических событий. Естественной границей индивидуальных ожиданий выступает смерть. С позиции конкретного человека она является предельным горизонтом индивидуального человеческого бытия, границей личного будущего254. На индивидуальном уровне происходит сопряжение ожидания, будущего и смерти, которое также несет на себе конкретно-временные особенности. В представлениях о возрастной границе смерти, факторах, влияющих на ее наступление, возможности воздействия на эти факторы (приближение или отсрочивание смерти) человек в первую очередь опирается на существующие в его обществе стереотипы. В мифах эта тема выражается индивидуальной эсхатологией255.
Помимо фундаментального страха перед смертью и неизвестным, что становится частью ментальной традиции, проецируемой через культуру, эту акцентуацию могут объяснить непростой климатический фактор и вытекающие из этого особенности быта и даже политической жизни региона, в которой переплетаются элементы первобытных верований, что комплексно формировало особую мифологическую картину мира, не столь жестокую, каковой ее описывали впоследствии христианские авторы, но всё же весьма сложной для понимания.
Провиденциальность в качестве компонента мифа напрямую связана с феноменом культурного ландшафта. Ландшафт как явление может трактоваться в качестве основного онтологического концепта, применимого и рассматриваемого как природный феномен, а также социальное явление, напрямую связанное с культурой. Структурной единицей данного феномена, его своеобразным атомом может служить платоновская «хора» (χώρα), являющаяся «телесно» выраженным «паттерном» традиции.
Специфика новой методологии анализа ритуально-обрядовых корней мифа определяла ее тесную связь с полевыми исследованиями первобытных культур, что отражается в работах представителей Кэмбриджской школы социальной антропологии: У. Риверса, Ч. Зелигман, У. Мак-Дугалл и ряда прочих, определивших новый принцип позиционирования мифотворчества как динамического фактора социального развития.
Фактически параллельно с развитием социальной антропологии оформлялась школа аналитической психологии, проявлявшая интерес к феномену мифа и наметившая настоящий переворот в рассмотрении проблемы посредством поворота от этимологического аспекта на эмоционально-аффективную область, сложившуюся под влиянием романтизма и концепции «психологии народов» Ф. Гербарта, призванной бороться с эмпирически нефиксируемыми категориями, к которым могут быть отнесены «врожденные способности». Он верил, что сама «психология превращается в мифологию»256 и миф есть продукт взаимной ассимиляции элементов представлений, результат обмана чувств, некоторая иллюзия. «Теория иллюзий» оставалась в русле когнитивных трактовок мифа, но акцент в ней переносился на активность сознания, которая может способствовать порождению как адекватных, так и искаженных образов мира, которым и посвятила себя психоаналитическая теория, одним из пионеров которой был В. Вундт, весьма критически оценивающий современные ему концепции мифа (лингвистическая, солярно-метеорологическая, анимистическая теории), ввиду игнорирования исключительной роли когнитивных процессов сознания в рамках конструкта мифотворчества, но также и ввиду невнимания современников к проблеме выявления мотивов мифологического мышления и полной концентрации последних на стремлении вывести мифологические структуры из базовых познавательных процессов и, в первую очередь, представления. Ученый заявлял, что «мифология одной своей половиной относится к истории – главным образом к истории духовной культуры, – а другой половиной к психологии, в особенности к психологии народов»257. Миф есть первобытная форма сознания. А сознание, с точки зрения Вундта, представляет собой сложную динамичную самоорганизующуюся систему, состоящую из взаимозависимых друг от друга многих связанных между собой фундаментальных процессов: когнитивных, аффективных, волевых. Он же подчеркивал, что основным истоком мифотворчества надлежит считать разного рода аффекты антиномического свойства: страхи и надежды, желания и страсти, любовь и ненависть. В. Вундт писал, что «глубочайшие источники мифологического мышления имеют свое начало не в каком-либо механизме представлений, а в человеческих аффектах и стремлениях»258, а подлинными механизмами мифологического мышления «являются не представления, но аффекты, сопровождающие повсюду представления и вторгающиеся как могущественные возбудители фантазии в образование представлений. Аффекты страха и надежды, желания и страсти, любви и ненависти представляют повсюду распространенные источники мифа. Разумеется, они всегда связаны с представлениями. Но только они одни вдыхают в эти представления жизнь»259.
Аффекты и эмоции в сознании первобытного человека в результате мифологической апперцепции становятся свойствами объектов, а содержание переживаний выносится во внешний мир, поэтому «не ум, не размышления относительно возникновения и взаимной связи явлений, а аффект является творцом мифологического мышления»260. Аффект именуется истинным творцом мифа, при этом его содержание напрямую связывается с ассоциативными механизмами сознания, что определяет важный шаг в интерпретации мифотворчества, связанный с переносом рассмотрения его сущности из когнитивной в эмоционально-аффективную сферу, демонстрируя при этом всеобъемлющее значение ассимилятивных комплексов эмоций и представлений, трактуемых Вундтом через призму кантовской апперцепции.
Иммануил Кант, выводя феномен «трансцендентального единства апперцепции» в качестве априорного свойства сознания, «объективного единства самосознания», «благодаря которому всё данное в созерцании многообразие объединяется в понятие об объекте»261, демонстрирует проблему объективности знания как его объективацию, обеспечиваемую внутренними принципами самоорганизации сознания. Опираясь на представленную трактовку, Вундт выводит понятие объективации перцептивного образа, проецированное им на феномен мифотворчества. Он подчеркивал, что возникновение мифа напрямую связано с волевым актом, проецируемым в сферу ощущений. Иными словами, «ощущения непосредственно становятся свойствами объекта»262, и переживаемые аффекты проецируются в окружающем пространстве: «Подобно тому, как надетая кем-нибудь на лицо маска, есть для первобытного человека в действительности тот демон или то животное, которое она обозначает, а не просто изображение его… Подобно этому и появление души во сне есть для него непосредственное, принимаемое без всякой рефлексии, переживание»263. Вундт называет это олицетворяющей апперцепцией. С этой точки зрения, мифология представляет собой обобщенные в образах субъективные переживания264.
Таким образом, была обозначена способность к мифотворчеству как одна из особенностей сознания, однако же исследователь абстрагировался от проблемы интерсубъективности, что, однако, не воспринималось им как существенный недостаток его теории.
Вслед за Вундтом З. Фрейд трактует мифологию как продукт вытесненных в подсознание нереализованных желаний и сексуальных комплексов, воплощающихся в мифических символах и знаках, демонстрируя миф как выражение бессознательных ассоциаций и побуждений эпохи детства народов. Как следствие, ученый приходит к выводу, что психоанализ неотделим мифотворчества, его проявлением является, по мнению австрийского психоаналитика, практика толкования снов, представляемая автором как форма герменевтического толкования, аналогичного анализу мифа. В творчестве Фрейда примером такого герменевтического толкования стал миф об Эдипе, ставший, по мнению самого ученого, средством объяснения истории культуры и духовности личности.
В свою очередь в основе фрейдистской концепции мифа находится три базовых тезиса:
1. Параллелизм сна и мифа.
2. Частое совпадение мировосприятия сумасшедшего с картиной мира первобытного человека: «Душевнобольной и невротик сближаются… с первобытным человеком, с человеком отдаленного доисторического времени»265, что демонстрирует фиксацию социокультурных запретов в рамках Сверх-Я и влечет за собой вытеснение неконтролируемых желаний на уровень бессознательного.
3. Изучение мифа есть не что иное, как выяснение его скрытых мотивов инстинктивного свойства, искусственный отказ от которых и влечет за собой рождение мифа: «Потребность в создании и пересказывании мифов обусловлена отказом от определенных реальных источников наслаждения и необходимости компенсировать их фантазией»266.
В этом контексте в работе «Тотем и табу» он анализирует феномен мифотворчества в контексте генезиса человеческой культуры, видя в табу одну из первооснов оформления феномена мифотворчества. При этом ритуальные практики и предписания, а также мифология, по его мнению, являются первыми этикообразующими конструктами, символизм которых скрывали бессознательные инстинктивные желания и влечения, которые были вытеснены механизмами социального контроля в виде регулятивов и запретов. Таким образом, мифология выполняла в условиях становления социальной организации в эпоху неолита основную социально-психологическую функцию – сублимацию энергию либидо, что обеспечивало сдерживание деструктивных импульсов области бессознательного, сохраняя и поддерживая культуру.
При этом Фрейд в первую очередь концентрировал внимание на психоаналитике мифа, нежели на проблеме его зарождения. Тем не менее его осторожные характеристики специфики зарождения мифа нашли отражение в трудах фрейдистов, его последователей: К. Абрахама, О. Ранка, Г. Закса и пр., рассматривающих миф как выражение бессознательных ассоциаций и побуждений эпохи детства народов, которые содержат «детские желания народа», именно те желания, которые он привык всегда отодвигать на задний план»267.
В целом эпоха пангерманизма породила волну интереса к рассматриваемой нами проблеме в виде изучения комплекса ментальных стереотипов и архетипов массового сознания германских народов, что повлияет на развитие юнговской теории архетипов268 как концентрированного выражения заката эпохи позитивизма. Трактовки К.Г. Юнга стали определяющими для комплексного восприятия пространства, наполненного особым содержанием – архетипическими структурами. К.Г. Юнг строит свою аналитическую психологию на основании концепции коллективного бессознательного как субстрата коллективной психической жизни, проявляющегося на двух взаимосвязанных, но качественно различных уровнях: индивидуально-личностном и коллективном, трансперсонально бессознательном (Фрейд признавал существование только первого из них). Индивидуально-личностное бессознательное образует лишь поверхностный слой бессознательного, является вытесненным или забытым и в любой момент может быть легко осознанно. Но в мире бессознательного есть надындивидуальный, трансперсональный уровень, не выводимый из личностного опыта – коллективное бессознательное.
В исследовании «Воспоминания, сновидения, размышления» он утверждал: «Коллективное бессознательное присуще всем, оно лежит в основе того, что древние называли «связью всего со всем»»269. Важным этапом развития данной теории можно считать теорию мономифа Джозефа Кэмпбелла270, заложившего основы сравнительной мифологии, активно прослеживающейся в развитии экранной культуры, базирующейся на заполнении определенного пространства контекстами и смысловыми характеристиками мифа, формируя особую циклическую конструкцию. Это опирается на идеи румынского историка Мирчи Элиаде, констатирующего стремление многочисленных сообществ возвратиться к мифологическому прошлому271.
Во многом пытается объединить и систематизировать большую часть этих принципов, представляя их в качестве механизмов становления как массового сознания, так и механизмов самоидентификации отдельно взятого индивида, Эдвард Эдингер, продолжающий вслед за Юнгом изыскания в области коллективного бессознательного272. Открытие К.Г. Юнгом сферы коллективного бессознательного привело к более глубокому пониманию природы и сущности мифа, его значения в аспекте общечеловеческой культуры. Миф является первой исторической формой символического выражения архетипов коллективного бессознательного, а мифотворчество представляет собой, по сути, трансформацию архетипов в образы и символы. «Коллективное бессознательное, видимо, состоит – насколько мы вообще вправе судить об этом – из чего-то вроде мифологических мотивов и образов; поэтому мифы народов являются непосредственными проявлениями коллективного бессознательного. Вся мифология – это как бы своего рода проекция коллективного бессознательного»273.
Подобного рода рассуждения могут быть органически дополнены за счет концепции морфологического органицизма, определяющего основания культуры как дорациональные, выражающиеся в глубинных символах, созвучных с теорией архетипов К. Юнга и его последователей274.
В основе этой теории лежит принцип «архетипической матрицы», демонстрирующей неразрывную связь между творческим мышлением индивида и оформлением мифологической традиции основных этносов, что в свою очередь структурирует нравы, обычаи и традиции, как своеобразный каркас мировой культуры, базирующийся на особенностях природного ландшафта, являющегося своеобразным фундаментом этой «традиции»275. Согласно Юнгу, наравне с универсальными культурными архетипами существуют этнокультурные архетипы (коллективный опыт народа), которые являются константами национальной духовности, определяющими феномен мифотворчества, выраженными и закрепленными основополагающими свойствами этноса как культурной целостности.
В каждой национальной культуре доминируют свои этнокультурные архетипы, существенным образом определяющие особенности мировоззрения, характера, художественного творчества и истории народа. В частности германским этнокультурным архетипом Юнг выделяет образ Вотана (в немецких легендах предводитель «дикой охоты», душ мертвых воинов276).
Согласно Юнгу, актуализация архетипа есть не только «шаг в прошлое» (возвращение к архаичным качествам духовности), но и проекция в будущее (выражение ожиданий народа на будущее). Активное присутствие этнокультурных архетипов является важным условием сохранения самобытности и целостности национальной культуры277.
Обладая значительной долей устойчивости, культурные архетипы проявляются синхронически и диахронически в различных формах, будь то мифологические образы или же их сюжетные элементы, находящие отражение уже в первобытных верованиях и примитивных ритуалах, впоследствии в значительной степени усложняющихся; феномене патриотизма, и национальных идеалах, что в свою очередь позволяет трактовать развитие любого этноса в качестве своеобразной истории становления определенного комплекса архетипов.
Кроме этого, как и Фрейд, Юнг напрямую связывал сновидения с феноменом мифа, трактуя эту категорию как исторически первую форму обнаружения драматизма коллективного бессознательного и «самую раннюю форму знания», возникающую в результате проецирования архетипов на природные процессы и явления, демонстрирующие мифологические образы как категории, обладающие исключительной полнотой и выразительностью, недоступной рациональным структурам. Соответственно, миф – это проекция бессознательных душевных состояний в виде богов, демонов и привидений на природные, естественные процессы.
Можно предположить, что именно на высказанном по интересующему нас вопросу мнении К.Г. Юнга, которое можно свести к феноменам «мифологического мышления» и «коллективного бессознательного», и З.Фрейда с его утверждениями о взаимодействии бессознательного и подсознательного, строится концепция структурной антропологии К. Леви-Стросса.
Во многом развивает идеи психоаналитической школы и сторонников теории архетипов учение о «мономифе» Джозефа Кэмпбелла, на данный момент нашедшая наиболее широкое применение в развитии киноиндустрии и игровой индустрии. Ученый видел формирование мифотворчества напрямую связанным с интерпретацией реальности, преломленной через призму социального бытия посредством символов – архетипов, которые демонстрируют антиномию противостояния Космоса и Хаоса, через героический эпос, имеющий универсальную структуру, что позволяет именовать ее мономифом. Его трактовки делают миф особым социальным конструктом, объясняющим универсальную природу причинности, духовно объединяющей всё человечество: «Герой отваживается отправиться из мира повседневности в область удивительного и сверхъестественного: там он встречается с фантастическими силами и одерживает решающую победу: из этого исполненного таинств приключения герой возвращается наделенным способностью нести благо своим соплеменникам»278. При этом автор уделил самое пристальное внимание биологическим, метафизическим и историко-культурным истокам мифа и его секуляризации сакрального в современном мире279.
Сконцентрировавшись на антропоморфизме, прослеживающемся в мифе, он одним из первых представил его в качестве динамичной категории, влияющей на глобальные социальные процессы.
Своего рода импульсом для развития теории «мономифа» стала наметившаяся еще на рубеже XIX-XX столетий инструментализация богатейшего опыта в исследовании проблемы, что проявляется в концепции культурных кругов Ф. Ратцеля и Л. Фробениуса, на основании чего Анкерман обобщает феномен культурного ландшафта в качестве культурной области с целостным комплексом явлений культуры, характерных для определенной местности.
Логичным развитием представленных ранее теорий стали идеи Л. Фробениуса в области типологии культур и их духовной символики и концепция диффузионизма Ф. Ратцеля, рассматривающая распространение созданных в определенной географической зоне культурных объектов, трактуемых в качестве основных стимуляторов историко-культурного процесса, развивая таким образом ницшеанское учение о разделении культур на мужские и женские, что можно обнаружить и в рассуждениях Н. Бердяева, выводящего феномен «мужественной культуры» применительно к германским народам280.