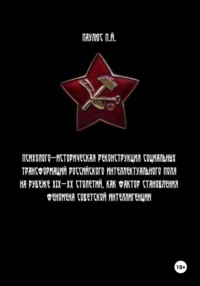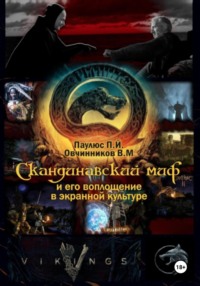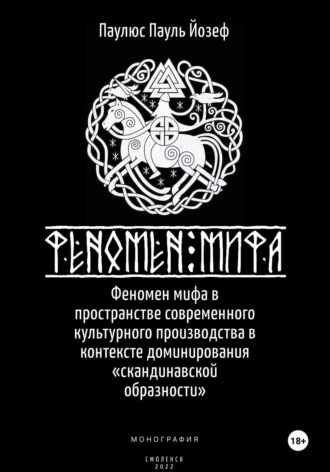
Полная версия
Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности»
Интерес к феномену мифа стал основанием не только парадигмы ремифологизации, но и более глубокого изучения характеризуемого явления целым комплексом социальных и гуманитарных наук. В частности, лингвистика, этнология и культурная антропология обратились к изучению мифа как наиболее ранней формы развития человеческой культуры, окончательно превратив эту философскую категорию в объект научного познания, что открыло исследователям проблему коренного отличия архаичного сознания от мировосприятия современного человека, «например, мифологическое сознание раскрывает свое содержание посредством инверсий и метаморфоз, способно сочетать в себе несоединимые элементы, играет с такими категориями, как время и пространство, алогично, амбивалентно и непредсказуемо, что явно противоречит законам западноевропейского мышления, опирающегося на логически непротиворечивые и верифицированные данные. Архаический миф открылся европейцам как мир абсолютно другого мышления, как нечто инородное по отношению к культуре XIX века, что еще больше усилило интерес к данному феномену и стремление объяснить специфику мифа с позиций научного разума»208.
.5.
Миф как научная категория. Особенности анализа и интерпретации.
Научное, теоретизированное исследование мифа в XIX веке представлено лингвистической теорией мифа М. Мюллера, солярно-метеорологической концепцией А. Куна и В. Шварца, эволюционизмом Э. Тейлора и ритуализмом Дж. Фрезера, а также психологическими исследованиями В. Вундта. В значительной степени именно развитие филологии повлияло на укрепление научного интереса к феномену мифа. Без сомнения, такие исследователи, как уже упоминаемый ранее М. Мюллер, а также А.А. Потебня и А.Н. Афанасьев, опирались на достижения сравнительно-исторических исследований, в первую очередь рассматривающих индоевропейские языки. Базовые принципы были заложены М. Мюллером, который сформулировал свою позицию следующим образом: «Мифология, бывшая отравою древнего мира, есть, в самом деле, болезнь языка»209. Миф в рамках этой концепции низводился до положения одного из аспектов языка, имеющих зачастую лишь негативные коннотации, ибо наряду с логикой и своей рациональной структурой язык мифа демонстрирует лишь непоследовательность, метафоричность и иррациональность, порождая иллюзии и заблуждения, но и демонстрируя при этом историчность мифа и самого мифотворчества210. «Для человеческой речи представляется невозможным выражать абстрактные понятия иначе, как только при помощи метафор и гипербол, если принять во внимание, что словарь древних религий составлен из одних метафор. В новом мире метафоры эти были забыты»211.
Лингвистическая концепция трактовала миф лишь как дисфункцию языка, связанную с потерей смысловой нагрузки ряда метафорических эпитетов, фигурировавших в древнейших языках. Таким образом, архаическая мифология может трактоваться в качестве одного из результатов исторического развития языка, основанного на антагонизме рационального и иррационального. Во многом подобная трактовка является своего рода продолжением философских идей просветителей. Э. Кассирер в работе «Миф о государстве» упоминает о позиции М. Мюллера следующее: «Мифология, таким образом, представлена как патологическая по происхождению и в своей сущности. Это болезнь, которая начинается в области языка и, как опасная инфекция, распространяется на всё тело человеческой цивилизации… Миф после всего представляет собой ничего кроме величайшей иллюзии, не сознательного, а неосознанного обмана, обмана, осуществленного природой человеческого мышления и, прежде всего, природой человеческой речи»212.
Рассуждения Мюллера демонстрируют начало гносеологического переворота в науке о мифе, в которой начинает абсолютизироваться положение о рассмотрении этого феномена в качестве результата интеллектуальной активности. Как подчеркивал российский исследователь того периода А.А. Потебня, «именно в сознании заключались причины, почему человеку периода мифов мир представлялся таким, а не другим»213. Александр Афанасьевич Потебня, будучи последовательным кантианцем, опираясь на исследования таких немецких исследователей, как Вильгельм Гумбольт, учитывал в рамках своей теории мифа принцип причинности рамках рассмотрения проблемы связи языка мышления. В подобном контексте он объяснял природу зарождения мифа как оформленной словесно мысли, подчеркивая при этом, что язык объективирует мысль. Миф, по его мнению, становится первым этапом соответствующего процесса, при этом поэзия как первичная форма искусства является порождением мифа, который, «подобно слову, есть не столько выражение, сколько средство создания мысли… цель его, как и слова, – произвести известное субъективное настроение как в самом производителе, так и в понимающем…»214. Кроме этого, Потебня четко разграничивает границы между мифом, искусством и наукой, считая необходимым учитывать этот факт: «Как мифы принимают в себя научные положения, так наука не изгоняет ни поэзии, ни веры, а существует рядом с ними, хотя ведет с ним в споры о границах»215. Представленный тезис актуален и на данный момент. В самом же мифе он видит не деструктивный процесс, а в первую очередь результат стремления к упорядочиванию в массовом сознании вопросов мироздания. Иными словами, миф – это форма самоидентификации субъекта познания, обеспечивающая его интеллектуальную активность, базовая форма донаучного познания: «В мифе образ и значение различны, иносказательность образа существует, но самим субъектом не сознается, образ целиком (не разлагаясь) переносится в значение… Миф есть словесное выражение такого объяснения, при котором объясняющему образу, имеющему только субъективное значение, приписывается объективность, действительное бытие в объясняемом. Таким образом, две половины суждения (именно образ и значение) при мифическом мышлении более сходны между собой, чем при поэтическом. Их различение ведет от мифа к поэзии, от поэзии – к прозе и науке»216. Принимая субъективность мифа как неотъемлемую часть развития цивилизации, исследователь смог доказать, что это закономерная часть развития любого этноса. Также он обратил особое внимание на то, что миф предшествует метафоре. Кроме того, Потебня выделяет такие ряд ключевых свойств феномена первичного (первобытного) мифотворчества – синкретичность, образность, монолитность, линейность и пр.217 Ученый заложил своего рода фундамент формально-структуралистский подхода к анализу мифотворчества. Достигается это посредством введения в научный оборот термина «мифическая формула», представляющего из себя комплекс устойчивых ассоциативных связей между определенными образами мифа, которые близки к бинарным оппозициям, имеющим следующую структуру – комплекс образов и система связей между ними. При этом миф, по мнению ученого, – это динамическая категория, развивающаяся, по нашему мнению, по принципу инструментализации. Именно Потебня одним из первых обратил внимание на феномен неомифологии, которая набирала свою популярность в Европе в этот период, уделяя при этом внимание личностному фактору как элементу мифа, что соответствует рассуждениям А.Ф. Лосева, подчеркивающего, что перед ним предстает досознательный и дотеоретический феномен: «В мифе нет разделения на субъект и объект, поэтому миф есть сама реальность, сама жизнь… Я же утверждаю, что личность и есть символически осуществленная интеллигенция… Миф есть бытие личностное или, точнее, образ бытия личностного, личностная форма, лик личности»218.
Одной из вех развития позднего романтизма становится интеграция в концепт формирующейся «философии жизни» в рамках творчества Рихарда Вагнера как философа и теоретика искусства, сохранившего один из идеалов романтизма – превознесение роли художника в созидании грядущего, что проявляется борьбе героя с обезумевшей толпой, движимой бессознательностью человеческой природы. Остановить ее может миф, находящий воплощение в музыке. И если ее содержанием является мир человеческих чувств, ее органами – гармония и ритм, то сущностью выступает мелодия; именно «мелодия является полным выражением внутренней сущности музыки»219, воплощающей духовность народа. Миф же в описании Вагнера – это изначально религиозная форма, «поэма общего мировоззрения»220, обладающая пластической многогранностью, из которой проистекают искусства. Как следствие, «новый мир приобрел свою творческую силу из мифа»221. «Несравненно в мифе то, что он во всякое время остается правдивым, а его содержание – при наибольшей краткости – неисчерпаемым»222. Миф связан с музыкой глубоким, генетическим единством.
Вагнеровский тезис о связи мифа и музыки нашел свое развитие в творчестве Ф. Ницше, на которого столь же сильно повлияли шопенгауровские идеи о воле как первооснове. Продолжая развивать идеи своих «духовных учителей», Ницше рассуждает о деструктивности социокультурной эволюции, лишающей человека возможности гармонично взаимодействовать с окружающим миром за счет появления всё новых граней социального пространства, подчиняющих индивида своим интересам в условиях господства сциентизма, но в то же время мышление образно и метафорично. Именно эти механизмы обеспечивают связь с действительностью в отличие от научных абстракций, которые, по мнению мыслителя, являются лишь фикцией, и отнесение их к миру есть не что иное, как мифология. При этом любые умозаключения, относящиеся к сфере духа, это и есть мифология. Как утверждал Ницше, человек столь ничтожен, что не в силах познать истину, но он формирует миф о ее познании, выделяя лишь ее исключительную ценность. Миф всеобъемлющ, он может рассматриваться как «необходимый результат и даже за конечную цель науки»223.
Миф в понимании философа – основополагающий элемент любой культурной традиции и социальной организации, который «ощущается» на протяжении всего периода существования социума: «Без мифа всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной силы: лишь обставленный мифами горизонт замыкает целое культурное движение в законченное целое»224. Также миф наряду с музыкой является прямым отражением, или же «зеркалом Мировой Воли». Миф, порожденный музыкой, провозглашает безграничность воли и ничтожество разума, уверовавшего в торжество науки. Как следствие, «утрата мифа – гибель культуры. Уничтожающим культуру фактором выступает дух науки, сократическое, теоретическое отношение к миру», поскольку «миф… давно уже повсюду лежит в параличе и.… везде достиг господства… оптимистический дух… как зародыш гибели нашего общества»225. В трактовке Ницше миф возводится до уровня одного из компонентов духа, его всеобщего основания, инстинктивного, чувственно-аффективного усвоения, которое является решающим средством преобразования морали, а значит, культуры, то есть человеческого сообщества и его будущей истории. Создатель теории о сверхчеловеке, которым вскоре начнет восхищаться Европа, заставил научное сообщество начать переосмысление природы мифа как фактора социального развития и социальных трансформаций.
Параллельно с этим лингвистическая теория мифа продолжила свое развитие в рамках весьма влиятельной солярно-метеорологической теории, представители которой А. Кун, Дж. Кох, В. Шварц, Ф. Вендорф и ряд прочих рассматривали формирование мифологических образов в контексте восприятия природных явлений и в первую очередь метеорологических и астрономических, формирующих определенный комплекс представлений, порождающих феномен мифологии. Особо стоит выделить позицию А. Куна, который уделял внимание проблеме единства мифоэпического сознания индоевропейской общности, трактуемой им в качестве единого культурного пространства, что было представлено в докладе, посвященном сравнительной мифологии индогерманцев «О происхождении Огня и Божественного Напитка». Он обращался к концепции «золотого века», именуемого «эпохой индогерманского единства», концентрируя внимание на фактическом распаде обозначенного им объединения, но сохранении при этом универсальной, по мнению мыслителя, интерпретации божественного. Отталкиваясь от эллинского Теос, он идентифицировал его с германским Тюр, или же индийским Дэва, сводя к эмпирически фиксируемым явлениям – радуге, грозе, молнии, движении облаков. Он отказывается при этом от концепции изначального монотеизма и демонстрирует феномен «древнейшей единой мифологии». В то же время сторонники описываемого течения стремились обозначить сохранение в массовом сознании механизма отражения образов, запечатленных в «Старшей и Младшей Эдде», акцентируя тем самым внимание на возможности сохранения эффекта нивелирования грани между мифологическим и реальным, сохраняя мироощущение, основанное на возведении человека в категорию «творца Космоса».
Развитие сравнительно-исторической мифологии подтолкнуло к появлению целого комплекса дискуссионных вопросов, связанных с проблемой формирования феномена мифа. Одной из таких проблем была концепция диффузного распространения комплекса базовых мифологем из единого первоисточника. В качестве такового различные исследователи рассматривали египетско-колхидскую мифологическую традицию, которую выделяли С. Краут и П. Фукар, что сопряжено с появлением «панегиптизма». Или же индийскую мифологию, что связано с мнением Т. Бенфея, семитскую традицию и пр. Диффузионизм получил устойчивый стимул к развитию на фоне дарвиновской теории эволюции, который повлиял на оформление как концепции моногенеза мифа, так и его полигенеза. Сложилось также представление о том, что, как и биологическая, культурная эволюция может идти либо дивергентно, либо конвергентно. При этом дивергенция вписывалась в концепции моногенеза, а конвергенция – в теорию полигенеза культуры, что не уменьшало недостатков описываемых теорий. При этом научные школы, учитывая процесс обращения европейских «национальных идеологий» к мифологическому прошлому, метались от идеи «пан-Европы» к поиску принципов национальной идентичности народов, выводя проблему происхождения мифа на второй план, но тем не менее не отказывались от нее.
Описываемому ранее течению сопутствует деятельность многочисленных «романтиков»: В. Шварца, В. Маннгардта, Г. Узенера – видевших мифотворчество в качестве социального явления, фундаментом которого были многочисленные первобытные бытовые культы, именуемые авторами «низшей мифологией» и трактуемой в качестве не побочного явления духовной жизни, а устойчивого фундамента зарождающихся социальных и духовных институтов. Для развития этой идеи различные примеры мифотворчества анализировались на предмет наличия различного рода «наслоений» эпохи «индоевропейского единства». Под подобным углом В. Шварц анализировал «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, обнаруживая в них весьма широкий спектр различного рода «пережитков». Причем многие из них обнаруживались им и в германской мифологии: в частности благовонные мази, которыми боги-олимпийцы умащали себя, сравнивались со снадобьями, наносимыми ведьмами перед шабашем226. Идеи «низшей мифологии» развивались и конкретизировались В. Маннгардтом, в центре исследований которого оказались земледельческие культы и обряды народов Европы, рассматриваемые ученым в качестве особой динамичной структуры, функционирующей по принципу инструментализации, обеспечивающей эволюцию мифологии. Он подчеркивал, что первичные верования базировались на комплексе устойчивых принципов:
1. Принцип соотнесения Космоса как символа мироздания, человека и древа, комплексно формирующие образ «Мирового Древа», что отражает его важность для концептуализации пространственно-временного континуума древнейшего мифомира.
2. Взаимозависимость древесного образа и человеческой судьбы, переплетенные воедино, образуя структуру, аналогичную греческому «микрокосму».
3. Рассмотрение древа в качестве обители духов.
Маннгардт демонстрирует широкий спектр земледельческих культов, ориентированных на превознесение «дарящих жизнь» стихий, видя при этом единый источник их возникновения, приходя к выводу, что наиболее уместным будет рассматривать мифологию и мифотворчество в качестве динамично развивающегося, иерархически систематизированного комплекса наглядно обобщенных образов.
Не менее важным этапом развития лингвистической теории, нежели деятельность описанных ранее исследователей, являются рассуждения Германа Узенера – одного из самых известных последователей Макса Мюллера, продолжавшего исследования в направлении принципа демонстрации тесной связи языка и мифа. При этом ученый полностью их идентифицировал как элементы единой системы, уделяя самое пристальное внимание трансформации именований божеств как фактора видоизменения феномена мифотворчества. Он предполагал, что подобного рода анализ приемлем в случае наличия некоего источника, объединяющего базовые мифологические образы и структуру самого языка определенного региона. Иными словами, интенсификацию и концентраци. чувственного опыта порождают в равной степени как язык, так и миф227. Кроме этого, мифологические образы развиваются по принципу индукции, создавая сложные конструкции «мифологической картины мира», опираясь на комплекс ранее оформившихся более простых принципов «общения с высшими силами». Важной частью концепции Узенера была демонстрация синонимичности имен божеств как примера мифообразов, демонстрирующая постоянную трансформацию мироощущения древнейшего человека. В том числе для упрощения систематизации многочисленных мифологических образов был введен термин «боги мгновения» – это обозначения сиюминутных образов, обожествляемых древнейшим человеком, будь то дуновения ветра, гром или же удар молнии. Подобный этап развития мифа в истории языка соответствовал периоду активного именования объектов окружающего мира и построения максимально полной его картины, зачастую через переживание различных событий, причем имя в данном случае является механизмом подражания сущности, является символом мира, механизмом его предфилософского анализа.
За этим следует этап идентификации и олицетворения высших сил с различного рода проявлениями окружающего мира, порождая феномен персонифицированных божеств, названных Узенером особыми или же специальными божествами, которые покровительствовали в равной степени как глобальным природным явлениям, так и единичным аспектам человеческого существования. При этом отмечалось, что у римлян, к примеру, «для всех действий и состояний созданы особые боги, которые наделялись четкими именами. Причем обожествлялись не только действия и состояния в целом, но и все их выделяющиеся каким-либо образом периоды, акты, моменты… Так, при освящении поля жрец-фламин призывал помимо богинь земли, Теллуры и Цереры, еще двенадцать богов: Вервактора при первой распашке целины, Репаратора при второй распашке, Инпорцитора при третьей и последней пахоте, Инситора при севе, Обаратора при запахивании послесева, Оккатора при бороновании, Саритора при выдергивании сорняков, Мессора при жатве, Конквектора при свозе зерна, Кондитора при закладке в амбар, Промитора при выдаче зерна из амбара»228. В дальнейшем продолжается процесс универсализации, определяющий окончательное оформление целостной картины мира, на завершающей стадии которого оформляется феномен высших божеств, трактуемых автором как личные, что, по его мнению, было важной закономерностью развития языка. По мере трансформации языка продолжается процесс персонификации божеств. Дальнейшее обобщение именований высших сил и наделение их антропоморфными чертами ведут к оформлению образа Бога-творца, воплощающего мироздание, осознаваемое человеком через мифологическое переживание мира. Таким образом, феномен трактуется как форма проецирования социальных и иных связей через призму «духовного переживания мира». В качестве примера Узенер использовал сравнение триединства Бога христиан с процессом формирования семьи как духовного триединства его членов.
Описываемая трактовка природы мифа в целом близка к умозрительной, и, несмотря на это, теория трансформации «низшей мифологии» по принципу индукции может трактоваться в качестве важного этапа развития «романтической» традиции интерпретации мифа. В целом представителям этого течения удалось продемонстрировать, что мифологическая образность системна и исторически развивается (в соответствии с изменением общества, его потребностей) на основе процедур обобщения и абстрагирования.
В рамках дальнейшей эволюции теории мифа лингвистический подход неоднократно подвергался активной критике, в первую очередь, со стороны новой для своего времени научной дисциплины – социальной антропологии – и ее основоположника Э. Тейлора, предложившего совершенно иной подход трактовки зарождения мифа и мифотворчества. Антропологическая школа, базировавшаяся на достижениях сравнительной этнологии и опиравшаяся на достижения эволюционной теории, предлагала ориентироваться на принцип сопоставления в рамках актуалистического метода, в большей степени характерного для естественнонаучных дисциплин, рассматривая проблему зарождения мифа. Важным фактором в рамках данного процесса является изменение культурно-исторического фона, связанного с возрождением популярной в Риме концепции сосуществования двух миров – цивилизованного и варварского, стадиально являющихся частями одной системы. Цивилизация уже трактовалась не в качестве «идеализированного Града», а в качестве реально существующей ойкумены, расширяющейся за счет поглощения «варварского мира», в новых условиях приобретающая стадиальную градацию, включая тем самым две антиномические категории – первобытность и цивилизация. Именно в таком контексте был использован термин «цивилизация» Л.Г. Морганом, разделявшим историю человечества на этапы дикости, варварства и цивилизации, связывая высшую точу развития социума с зарождением института частной собственности «как страсти над всеми другими страстями»229 и с «употреблением письма или равнозначных ему иероглифов»230. Идеи эволюционизма вдохновляли также таких ярких представителей британской социальной антропологии, как Дж. Леббок231, Дж. Мак-Леннан232, Дж. Фрэзер233 и др.
В своей работе «Первобытная культура» Э. Тэйлор подчеркивает, что необходимо считать «материальный миф первичным, а словесный миф вторичным образованием»234. Научное мировоззрение исследователя строилось на принципе полной идентификации биогенеза и социогенеза как этапов единого процесса. Соответственно, «различные ступени культуры могут считаться стадиями постепенного развития, из которых каждая является продуктом прошлого и в свою очередь играет известную роль в формировании будущего»235. Опираясь на принцип актуализма, Тейлор предполагал, что «тенденции в развитии культуры были одинаковы во все времена существования человеческого общества и… по тому развитию культуры, которое нам известно из истории, мы смело можем судить и о ее доисторическом развитии»236, что позволяло рассматривать историю культуры и цивилизации в качестве линейного процесса, от гомогенного к гетерогенному. Одушевление мира достигает высшей своей точки в олицетворении его, т.е. в первобытном мифотворчестве.
С точки зрения автора, основой зарождения мифа и, как следствие, началом мифотворчества была система примитивных верований, именуемая анимизмом, в котором ученый видел своего рода проявление первичного религиозного чувства, основанного на дополнении древнейшим человеком картины реального мира многочисленными мифологическими образами, которые он воспринимает как данность. Таким образом, и мифологическая картина мира целиком оформляется вследствие удовлетворения потребности индивида в познании, через призму сосуществования мира людей и мира духов. Соответственно, миф есть не что иное, как продукт человеческого разума, становление которого сопряжено с эволюцией первичных культурных форм, имеющих в первую очередь этимологическую функцию. Миф как форма протонауки растворяется в более сложных формах идентификации социума и превращается лишь в слабый отголосок прошлого, не имеющий значительной смысловой нагрузки.
Тейлоровская концепция анимизма была весьма популярна, однако истоки первичного одухотворения мироздания, проявляющиеся в связи с оформлением также культа мертвых, фетишизмом и тотемизмом, трактуемые как инструментарий первичного мифотворчества, в ином ракурсе рассматривали многочисленные авторы. Г. Спенсер, связывающий становление анимизма с примитивными заупокойными культами, породившими феномен мифотворчества. В свою очередь фетишизм и тотемизм – это лишь проявление деградации первичных верований, связанных с различного рода метаморфозами человеческого сознания237. Р.Р. Маретт, развивая тезис о превалировании анимизма, выделяет понятие аниматизма как более ранней формы интерпретации безграничной духовной силы природы, неперсонифицированной и всеобъемлющей. При этом представленные авторы видели в анимизме своего рода примитивную натурфилософию, преувеличивающую стремления первобытного человека к самоидентификации. Подобные трактовки были в высшей степени дискуссионны, что заставляло исследователей производить пересмотр общей методологии эволюционизма, что в том числе связано с именем У.Р. Смита, которого можно назвать одним из пионеров «ритуализма». В рамках изучения семитских религий он выделял тезис, весьма существенный в понимании первичного мифотворчества: «Древние религии не имели в большинстве случаев вероучений, они полностью состояли из институтов и обрядов»238. «Поскольку мифы представляют собой объяснения обрядов, их значение второстепенно, и можно с уверенностью утверждать, что почти в каждом случае миф произошел из обряда, а не наоборот»239. Соответственно, миф зарождается как форма коммуникации, несущая в себе назидание и объяснение смысла ритуал, истоки которого стерты из коллективной памяти, на их основе появляются вторичные мифы систематизирующего толка (в том числе и миф политический).