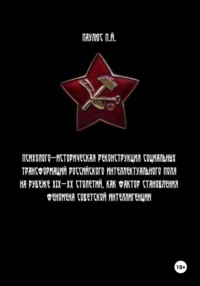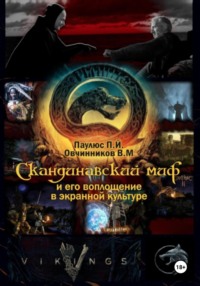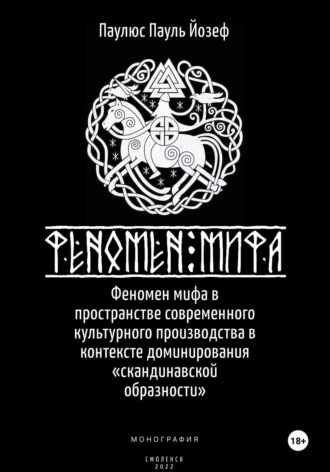
Полная версия
Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности»

Пауль Паулюс
Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности»
Введение
Наиболее ярким проявлением развития культурной традиции в рамках того или иного исторического дискурса являются массовые развлечения, демонстрирующие ментальные стереотипы социума в исторической ретроспективе, что прослеживается в эпоху глобализации в рамках массовой культуры, приобретающей черты интернациональной категории.
Мы обратимся к рассмотрению реализации этого концепта, рассматривая использования масштабного комплекса архетипов, характерных для североевропейской культурной традиции, условно именуемых нами «скандинавским мифом», в контексте их применения в визуализированных типах экранного искусства (кинематографе, а также продукции современной игровой индустрии). Последнее порождает включение мифологического концепта в реалии современной мультикультурной традиции и ведет за собой, по нашему мнению, формирование принципиально нового культурного концепта, фаталистического по своей природе, устойчиво базирующегося на провиденциальности как особом факторе становления нового историко-культурного пространства, порождающего феномен инструментализации предыдущих культурно-исторических практик, видоизменяющихся в глобальном дискурсе.
Научная актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью отдельных сторон рассматриваемой нами проблемы, что напрямую связано с высокой динамикой видоизменения историко-культурных реалий развития современной цивилизации и тесно взаимодействует с вопросом использования и видоизменения архетипических конструкций в рамках современного искусства, демонстрируя широчайшие коннотации данной проблемы, междисциплинарный характер которой позволяет трактовать ее в качестве одного из ключевых элементов развития новой парадигмы в развитии культуры, философии, социальных отношений и пр. Подобного рода тенденцию мы трактуем в качестве трансформации имеющихся форм культурной самоорганизации, из чего проистекает та избыточная, хаотическая социокультурная активность, которую можно наблюдать в современности1. Она напрямую связана с получившей широкое распространение проблемой культурного пространства, имеющей явные философские коннотации.
Высокий уровень теоретизации проблемы наглядно демонстрирует ее многогранность, особый пространственный контекст, «ноуменальность», как именовал ее Карл Юнг, один из создателей теории архетипов. Кроме этого, в ее рамках легко прослеживается тенденция консолидирующего порядка, подразумевающая под собой стремление создать новую мифологию как единое символически-смысловое пространство.
Своеобразной источниковой базой нашего исследования являются образцы визуализированной продукции, создаваемой носителями классического скандинавского архетипа, проецирующие всё мироощущение через творчество на различные компоненты массовой культуры, видоизменяя общую мифологему феномена мультикультурализма ввиду своей визуальной и философской привлекательности в реалиях развития коммерциализированного искусства, формируя феномен доминантного дуализма, или слияния различных структур в единое целое, порождая многочисленные образы, символизм которых сам по себе становится особым архетипом.
Проблемы идентификации базовых мифологем, определяющих самоидентификацию индивида в пространственно-временном дискурсе, являются одними из древнейших философских проблем, о чем упоминают многочисленные антропологи, изучая древнее искусство шаманов – первых исследователей природы бытия. При этом нельзя не упомянуть, что, хотя эта проблема как особая теоретическая модель представляется Платоном в его теории о существовании мира идей2, а затем его последователем Дионисием Ареопагитом3, в историческом контексте она может быть рассмотрена на примере знаменитого «римского мифа» и его последующих инструментализаций.
Рассматривая же особенности и предпосылки становления скандинавского языческого общества уже в эпоху Вендаля, можно обнаружить целый ряд тенденций, демонстрирующих использования архетипов массового сознания в политических целях, что впоследствии в значительной степени и определит интерес к вышеуказанным феноменам.
Эпоха пангерманизма породила волну интереса к рассматриваемой нами проблеме в виде изучения комплекса ментальных стереотипов и архетипов массового сознания германских народов, что повлияет на развитие юнговской теории архетипов4 как концентрированного выражения заката эпохи позитивизма. Трактовки К.Г. Юнга стали определяющими для комплексного восприятия пространства, наполненного особым содержанием – архетипическими структурами. Важным этапом развития данной теории можно считать теорию мономифа Джозефа Кэмпбелла5, заложившего основы сравнительной мифологии, активно прослеживающейся в развитии экранной культуры, базирующейся на заполнении определенного пространства контекстами и смысловыми характеристиками мифа, что формирует особую циклическую конструкцию, опирающуюся на идеи румынского историка Мирчи Элиаде, констатирующего стремление многочисленных сообществ возвратиться к мифологическому прошлому6.
Во многом пытается объединить и систематизировать большую часть этих принципов, представляя их в качестве механизмов становления как массового сознания, так и сознания и механизмов самоидентификации отдельно взятого индивида, Эдвард Эдингер, продолжающий вслед за Юнгом изыскания в области коллективного бессознательного7.
Представленные механизмы уже в начале XX столетия активно используются в кинопродукции, а также в целом ряде иных форм визуализации, демонстрируя архетипические образы мужчины и женщины в качестве базовых структур нового культурного мифа, определившего формирование современной массовой культуры8.
Рассматриваемая проблема весьма близка с вопросами, связанными с рассмотрением феномена мифа, активно используемого в рамках семиотического подхода в исследовании пространства культуры Р. Бартом9 (он трактовал миф как особую коммуникативную систему в виде совокупности коннотативных означаемых, образующих латентный (скрытый) идеологический уровень дискурса10) и К. Леви-Строссом, применявшим принципы структурной лингвистики в своих антропологических моделях11. Стоит также обратить внимание на рассуждения Л. Леви-Брюля12 и Дж. Фрезера13 по этому вопросу.
Применительно к отечественной историографии, рассматривая различные аспекты развития мифа, стоит выделить системообразующие работы Ю.М. Лотмана14, а также А.Ф. Лосева15, М.М. Маковского16, демонстрирующие природу мифа в качестве особого пространства, определяющего формирование концепта культуры на основе широкого спектра архетипов. Этому посвящены труды следующих исследователей: Мелетинского Е.М.17, Липовецкого М.Н.18, Борисова С.Б19, Чернявской Ю.В.20, Злотниковой Т.С.21 и пр.
В рамках нашего исследования активно использовались работы, рассматривающие проблему формирования и развития так называемого скандинавского мира, демонстрирующие базовые архетипы «нордического мифа», активно проецируемые в современном скандинавском кинематографе, а также индустрии виртуальных развлечений. Среди них особо следует выделить работы Тюрвиля-Петра Г., анализирующего особенности развития северных верований, оказавших огромное влияние на становление скандинавской этнокультурной традиции22, а также работы Топоровой Т.В., очерчивающей основные философские и социальные грани развития скандинавского общества через призму духовной жизни, ментальной традиции и базовых архетипов, характерных для этого региона23, что можно рассматривать в качестве развития идей Фридриха Холхаузена, немецкого исследователя 30-х годов прошлого столетия. Также стоит выделить работы Спегеля24, Гуревича А.Я.25, Мельниковой Е.26, Хлевова А.А.27, Будановой В.П.28, Стрингольма А.29 и т. д.
Не менее важным компонентом нашего исследования стала проблема философской интерпретации кинематографа, преломляющая исторический материал в русле развития массовой культуры, и ее компонента, ставшего основным предметом нашего исследования, – культуры экранной. Этот вопрос активнейшим образом рассматривается такими исследователями, как Ж. Делез30 (один из первых трактующий кинематограф в качестве особой философской категории, имеющей специфические коннотации), Куртов М.А.31, Аль-Хаким М.А.32, Арнхейм Р.33, Моля А.34 и т. д.
Обратим внимание на такое аудиовизуализированное средство коммуникации, как видеоигра, которая синтезирует в себе элементы повествования в форме кат-сцен и мизансцен, дополняемых различными звуковыми приемами выразительности, что делает их формой визуализированного контента, подобного кинематографической продукции. Вместе с тем компьютерная игра обладает рядом специфических, присущих лишь ей особенностей. Например, высокая степень интерактивности за счет применения возможностей интерфейса и навигации в «пространстве игры», что комплексно обеспечивает широкие возможности применения, анализа и интерпретации получаемой пользователем информации.
Среди широкого спектра авторов, ведущих свои исследования в подобном ракурсе, особо стоит выделить следующих: Кавер Е.Г.35, демонстрирующая концепт путешествия и повествования, являющийся основой настольных ролевых игр, активно эксплуатируемых современной компьютерной индустрией; Бартон М.36, концентрирующий внимание на трансформации классических настольных ролевых игр в новый вид аудиовизуальной продукции – компьютерных игр жанра РПГ; Ян-Судман А.37 развивает идею о возможности интерпретировать интерактивные развлечения в качестве особой формы коммуникации в условиях современных глобализационных процессов, трактуя компьютерные игры в качестве особого социокультурного феномена, стирающего «границы», сдерживающие развитие социума. Также стоит обратить внимание на работу Фромма Дж.38, анализирующего превращение компьютерных игр в новый тип медиаискусств. Комплексно работы обозначенных авторов, а также труды таких исследователей, как Браун Э.М.39, анализирующей природу сексуальности, демонстрируемой в ролевых играх, Боуман С.Л.40, раскрывающей особенности функционирования ролевых игр как культурного и социального феномена, Триска М.Дж.41, выделяющего основные этапы эволюции жанра ролевых игр и прочих, демонстрируют значительный интерес зарубежных исследователей к влиянию феномена виртуальных развлечений на современную массовую культуру.
Как указывает американский исследователь Марк Вульф, восприятие игры (ее восприятия, дополняемого особенностями идентификации в игровом пространстве) глубоко отлично от репрезентации иных видов визуализированных медиа, и если просмотр фильма можно интерпретировать как «активный процесс» погружения в пространство, формируемое киноповествованием, то понимание через воображение его скрытых смыслов и метафор уместно трактовать в качестве своеобразного «чтения». Концепт виртуальных развлечений включает в себя все обозначенные элементы, дополняемые при этом еще одним существенным компонентом – фактическим действием (зачастую ограниченным в пространственном и временном плане), превращающим игрока ведущего протагониста в своего рода демиурга42…
Как утверждают Й. Дови и Х. Кеннеди: «Смыслы, генерируемые игрой, отличаются от смыслов, складывающихся при чтении. Читать – значит мысленно интерпретировать текст. Играть – генерировать смыслы в процессе игры»43.
Датский культуролог К. Джессен указывает на специфическую эмпирическую ситуативную основу видеогейминга, репрезентуя характеризуемую категорию в первую очередь в качестве особой социокультурной практики: «Невозможно интерпретировать смысл игры вне конкретной практики игры, которая сама по себе есть путь к ее пониманию. Например, то, что может само по себе выглядеть чрезвычайным насилием на экране, на практике может иметь совершенно иную функцию»44.
Целый ряд исследователей, как-то: Э. Аарсет (E. Aarseth), М. Эскелинен (M. Eskelinen), Х. Ловуд (H. Lowood), Дж. Джуул (J. Juul) и пр. – весьма часто подчеркивали то, что можно обнаружить широкий спектр различий между видеоиграми и другими более традиционными медиатехнологиями и коммуникациями, и утверждали, что для понимания специфики видеоигр необходимо вырабатывать особые методы и критерии оценки, отличные от методологий, принятых в исследованиях академических дисциплин. Эти авторы пытались препятствовать попыткам ассимиляции между изучением видеоигр и теорией нарративных медиа, а также утверждали недопустимость «визуализма» в исследованиях видеоигр, который, по их мнению, проявляется в некорректных попытках некоторых учёных исследовать видеоигры в категориях кинематографической теории45.
Особое место в практике изучения видеоигр играют работы Э. Аарсета, среди которых особо можно выделить «Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature». В ней особое внимание уделяется тезису о том, что применение постулатов герменевтического анализа текста далеко не всегда применимо к продукции игровой индустрии. Для кибертекста характерны высокая степень субъективации интерпретации различных форм и сущностей, а также возможность манипулировать пространственно-временными категориями, выходя за рамки той «ментальной свободы», что дает оперирование традиционными текстами (в первую очередь письменными)46.Соответственно, порождение новых смыслов в рамках интерпретации текста при погружении в игровую вселенную ведут к созданию новых текстов и формированию соответствующего культурного ландшафта.
В свою очередь Г. Фраска стремится к разграничению нарративной и симуляционной составляющей функционирования виртуализированного и визуализированного игрового действа, уделяет самое пристальное внимание последовательности игровых событий (ситуаций). Он, во многом опираясь на философскую интерпретацию феномена игры, акцентирует внимание на аппаратный контроль сферы правил, лишь очерчивающий грани «кибертекста»47, позволяя каждому создавать свою историю.
В определенной степени резюмирует две обозначенные позиции М. Пикард, подчеркивая, что «видеоигры основаны на игровых правилах и интерактивности, что делает их отличными от традиционных искусств, таких как кинематограф или театр, и требует особых методов анализа. Эстетика видеоигр не ограничивается тем, как игра выглядит или как звучит, но связана с тем, как она функционирует. Сам же геймплей при этом не связан с теми эстетическими принципами, с которыми обычно ассоциируются традиционные виды искусств»48. Весьма близок к представленному предположению П.Д. Молинье49.
Стоит также обратить внимание на работы Я. Богост50 и М. Фленеган51, демонстрирующих формы и образности игрового пространства в качестве своего рода «идеологического манифеста» (своего рода мифологемы, напоминающей политическую), актуализируя тезис о способности кибертекста (таковым образом вполне уместно именовать игровые проекты) оперировать «процедурной риторикой»52 и принципами «процедурной герменевтики»53. Расширяя таким образом рамки традиционной аргументации, описываемая практика обеспечивает формирование комплексного восприятия виртуализированной симуляции (отражающей широкий спектр аспектов течения исторического процесса), что соотносимо с утверждением Баэрга о формировании посредством процедурной риторики новой образности и новых коннотаций убеждения субъекта54. Описываемая позиция актуализируется, по нашему мнению, в пространстве исторической симуляции присутствующих в таком игровом жанре, как глобальные стратегии в силу высокой вариативности и многогранности данного типа трансмедийных произведений (операционно функционирующих за счет параллельного течения широкого спектра единичных операций55).
Соответственно кибертекст, будучи особым феноменом – социальным артефактом, может быть представлен в качестве довольно широкой социокультурной категории, имеющей глубокие философские коннотации, связанные с ее высокой степенью динамизма и интерпретационных возможностей.
Стоит заметить, что важным компонентом формирования игрового пространства (в рамках виртуализированной вселенной) является оперирование метафорой диалога, соотносимой с феноменом «диалогизма», присутствующего в трудах В. Эбнера, М. Бубера, М. Бахтина и ряда прочих исследователей. При этом в зарубежной историографии обозначенный феномен «отделяется» от концепта интерактивности, однако они не представляются в качестве антиномичных категорий. В частности, Й. Дови и Х. Кеннеди, анализируя специфику интерпретации, характерную для традиционных медиа, представляют ее в качестве инструментария видоизменения текста, интерактивность же репрезентуется как особая аппаратная структура, в том числе контролирующая функционирование машинных интерфейсов56. Э. Аарсет в свою очередь развивает соответствующий принцип через введение в научный оборот понятия «эргодического текста» как компонента «кибертекста», который обеспечивает возможность видоизменения текстологической структуры повествования субъектом (пользователем). Ученый выделяет особую роль «физической трансформации текста», а не его интерпретации на основе субъективной рефлексии, выводя тезис о смене интерпретационной стратегии в рамках течения информационной революции.
В отечественной историографии можно обнаружить несколько общих работ по рассматриваемой нами тематике, дающих представление о рассмотрении феномена компьютерных игр и игровых вселенных в качестве инновационного культурного явления, что прослеживается в рассуждениях таких исследователей, как Савицкая Т.Е.57, Мартынов К.58, Галкин Д.В.59 и ряде прочих. Тем не менее, ни одна из них не предлагает системного подхода и всестороннего рассмотрения как игровой индустрии в целом, так и ее ключевых элементов, одним из которых является «открытый мир» ролевых игр.
При этом еще Лотман Ю.М. обращал внимание на такое явление, как интерактивные развлечения, а в трудах целого ряда отечественных исследователей, таких как Топоров В.Н.60, затрагивающий влияния базовых мифологем на оформление культурных ландшафтов, Хренов Н.А.61, рассматривающий трансформацию феномена массовых развлечений эпохи зарождения «информационной революции», Корецкая М.А.62, анализирующая миф как механизм и форму текста, используемый в визуализированных типах искусства, Буглак С.С.63, характеризующий образные конструкции, имеющие архетипическую природу, и их применение в компьютерной индустрии, – можно проследить обращение к интересующему нас феномену, зачастую через призму теории карнавальной культуры М.М. Бахтина64, которую мы считаем необходимым дополнить элементами учения об архетипах К. Юнга, применимых в ракурсе рассматриваемой проблемы.
Представленные авторы имеют различные подходы к рассмотрению особенностей развития компьютерной индустрии, поскольку игровая продукция как явление и форма коммуникации относительно недавно вошли в массовую культуру, а методы и цели изучения данного феномена находятся на стадии становления. Не устоялся также и концептуальный аппарат.
Представленные исследования использовались автором для демонстрации культурного взаимодействия на различных уровнях одной этнокультурной системы, трактуемой через призму юнговской теории архетипов в контексте развития современного киноискусства и игровой индустрии, использующих феномен «скандинавского мифа», что порождает взаимовлияние различных факторов духовной жизни социума, влияя тем самым на появление новых типов взаимосвязей и отношений. Мы полагаем, что в этом контексте наиболее ярко проявляется так называемая архетипическая функция, проецируемая на культуру, создающая эффект удвоения реальности посредством использования различных психологемных средств, что в свою очередь и порождает необходимость выделения архетипа в качестве культурообразующей единицы, генерируемой искусственным путем, что демонстрирует частичную управляемость культурогенеза.
Если учитывать при этом, что К.Г. Юнг при рассмотрении культурных явлений активно выделял понятие психологемы, отождествляемой с архетипом, выделял исключительную роль формирования особого психологемного пространства, как семантической области пространства культуры, которая базируется на архетипах, можно утверждать, что оформляющееся новое культурное пространство породило новые механизмы социокультурного взаимодействия, имеющие в своей основе хронотоп провиденциальности, включающий в себя ряд архетипических установок (культурных императивов) и приоритетов, основанных на архетипических образцах.
В своем исследовании авторы будут базироваться на предложенных Ю.М. Лотманом трактовках культуры как многоуровневой знаковой системы, как особой формы пространства, представляющего собой всю совокупность информации, которая передается от поколения к поколению через негенетические формы65. Подобного рода вектор исследования позволяет сконцентрировать внимание на комплексе базовых архетипов, выделяемых К.Г. Юнгом: Герой, Тень, Анима и Анимус (особенно касаясь таких, как Персона, Великая Мать, Дух, Дитя и Дракон, рассматриваемых в рамках исследования). При этом в ряду дискурсивных контекстов в незначительной степени автор затронет и комплекс так называемых производных архетипов, наиболее яркими из которых являются Дорога и Дом.
Методологической основой исследования служат принципы историзма и объективности, что предполагает непредвзятый подход к анализу проблемы инструментализации скандинавской ментальной традиции, имеющей фаталистические коннотации в современной массовой культуре, на примере кинематографической продукции и продукции игровой индустрии. Автор использовал семиотический и герменевтический методы применительно к проблеме рассмотрения формирования ментального и культурного пространств скандинавских народов. Структуралистский метод применяется при внутреннем анализе как культурного пространства, так и структурного разделения феномена ментального пространства.
Применяя в рамках исследования базовые методы аналитической психологии, автор рассматривает архетипы через призму культурологического анализа, что позволяет трактовать последние в качестве механизма, генерирующего пространство культуры.
Комплексный характер подхода позволяет рассмотреть семиопсихологемное пространство культуры с позиции таких научных дисциплин, как философия, культурология, психология, синергетика, находящихся в теснейшем единстве при рассмотрении выделяемых нами проблем. При этом авторская позиция в исследовании культуры носит компаративный характер.
Основная гипотеза исследования заключается в том, что в синтетических видах искусства весьма ярко проявляется комплекс архетипов, порождающих новые мифологемы, столь же яркие, как и мифологические системы различных народов, примером чего является «скандинавский миф», фаталистические акценты которого становятся одним из факторов становления новой культурной парадигмы эпохи глобализирующейся культуры.
Характер нашего исследования определяет использование разнообразных по своей специфике источников, основными из которых являются многочисленные скандинавские саги эпического периода развития литературной традиции региона, демонстрирующие формирование базовых архетипических моделей, активно используемых в кинематографе и игровой индустрии рассматриваемой эпохи.
Глава I. Феномен мифа в ретроспективе развития «интеллектуального поля» человеческой цивилизации.
Принцип познания, превратившийся из философской категории в феномен научного поиска, уместно рассматривать в качестве одного из механизмов актуализации целостности культуры, наглядно демонстрирующего значительное влияние на социум концепта мифологии. Подобного рода воздействие проявляется на протяжении нескольких тысячелетий и зачастую связывается в европейской традиции с феноменом «эллинской» философии. Нельзя не заметить, что реалии развития информационной цивилизации связаны с феноменом «новой мифологии», которая неразрывно связана с древнейшими формами самоидентификации индивида и общества.
Миф как явление вполне уместным будет трактовать в качестве особого конструкта идейного плана, влияющего на трансформацию человеческого сознания, базирующегося на восприятии реальности и оформлении ее образа, постоянно соотносящегося с нею, обеспечивая тем самым бытийную связь между рациональным и иррациональным («мифосом» и «логосом»), в равной степени необходимыми для формирования первичного пространства жизненных смыслов, обеспечивающих формирование целостного культурного ландшафта той или иной исторической эпохи. Таким образом, миф выступает в качестве фундаментальной онтологической данности, обеспечивающей формирование культуры.
Можно предположить, что подобная трактовка в равной степени уместна как для архаического мифа, так и для мифа современного. Мы полагаем, что перед нами не столько деформация первоначальных культурных смыслов в рамках концепта массовой культуры, сколько эффект прямой инструментализации, обеспечивающей сохранение устойчивой иерархии смыслов. Соответственно, современный миф, в рамках которого прослеживаются многочисленные реликты – элементы мифа архаического, прослеживающийся и в современной неклассической науке, искусстве, находит отражение в массовом сознании, образуя «здание культуры». Внешне это может представляться в качестве эффекта «радикальной плюральности» или же «эпистемологического анархизма», которые, впрочем, являются элементами самоорганизации и универсальной эволюции широкого спектра мифов – культурных, социальных, политических и философских, синтезируясь воедино, обеспечивающих успешную самоидентификацию социума. Влияние мифа на науку и искусство, а значит, и на массовое сознание, не вызывает сомнений, но несмотря на значительный оттенок мультикультурализма, в современных реалиях рассматриваемый процесс имеет глубокие корни, что позволяет выстроить определенную историческую ретроспективу формирования феномена мифа в пространстве культуры.