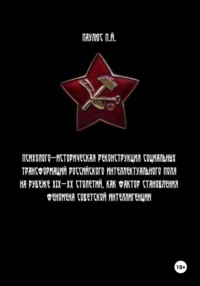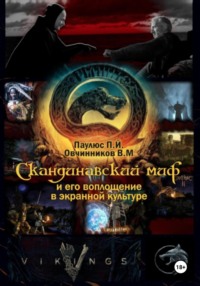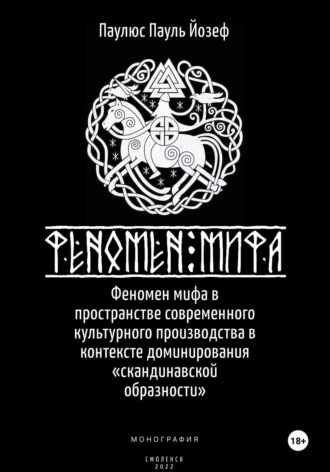
Полная версия
Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности»
Он сконцентрировал внимание на логической структуре мифа, о чем М.В. Лифшиц заметил в «Критических заметках к современной теории мифа» следующее: «Часто приходится иметь дело с пустыми фразами о недоступности мифа как особой формы сознания логическому анализу. С этой точки зрения можно поздравить современную науку: после почти столетия насмешек над «дикарем – философом» К. Леви-Стросс доказал способности дикарей, le sauvages, к абстрактному мышлению»318.
Обобщение и классификация мифологизированного пространства, по мнению ученого, направлено на решение тех же задач, что ставит перед собой современная наука. «Любое классифицирование, – пишет К. Леви-Стросс, – имеет превосходство над хаосом; и даже классификация на уровне чувственных качеств – этап в направлении к рациональному порядку»319. Несмотря на то, что мифологическое мышление принципиально метафорично, образно и символично, а раскрытие его смыслов имеет характер бесконечных трансформаций, оно не лишено знания глубоких природных закономерностей. И в этой связи архаическое сознание вовсе не предстает примитивным, наивным пред-мышлением, а обладает способностью логического познания и объяснения мира. «А ведь требование порядка лежит в основании мышления, называемого нами первобытным, поскольку оно лежит в основании всякого мышления»320.
Структуралистская методология стремится выявить в мифе некую структуру как совокупность глубинных, внутренних, сущностных отношений. Миф имеет особую априорную систему координат, управляющую логическими отношениями и связями между предметами и явлениями мира. Задача данной мифологической структуры состоит в создании логической модели преодоления противоречий окружающего мира, другими словами, миф у К. Леви-Стросса предстает как инструмент классификации и разрешения культурных противоречий.
Отчасти предвосхищая идеи К.Леви-Стросса, К. Хюбнер развивает традицию интерпретации мифа в качестве формы нуминозного опыта, окончательно порывая с традицией, основанной на рассмотрении мифа как формы иррационального; демонстрирует его в качестве особого конструкта, имеющего особую структуру и логику интерпретации. В исследовании «Истина мифа» он пишет: «Странно лишь то, что подобному поэтически-мифическому опыту отказывается в истинности, хотя он всем нам так хорошо знаком»321. Исследователь формулирует тезис о том, что одной из задач мифа является реализация когнитивной функции в рамках поля культуры, обеспечивая тем самым всеобъемлющее познание природы бытия, в основе которого лежит собственная априорная система координат, обусловливающая мышление и опыт человека эпохи архаики. Он утверждал, что миф «обладает априорным фундаментом, посредством которого определяется то, что есть объект в рамках его интерпретации реальности»322. К. Хюбнер определяет систему мышления и опыта в мифе, как рациональную, и утверждает истинность мифического способа видения реальности. Через исследование рациональности как эмпирической, семантической, логической, операционной и нормативной интерсубъективности миф представляется им не менее систематичным, чем научное познание за счет учета того факта, что миф содержит трансцендентальные условия, обладает априорным фундаментом, на основе которого происходит интерпретация реальности. «Превосходство науки над мифом, таким образом, вопреки представлениям большинства, лишь фактически-историческое явление и не выражается в более необходимой рациональности или большей истинности науки»323.
Соответственно миф в качестве альтернативной формы познания может существовать параллельно с наукой, активно взаимодействуя с ней, демонстрируя при этом определенную долю истинности, основанную не только на шаблонизации массового сознания, но и на выработке четкой структуры анализа действительности, аналогичной научной: «Как оказывается, не существует формального различия между мифической и научной моделью объяснения, хотя они связаны с совершенно иными содержаниями, понятиями опыта и представлениями об истине»324.
С точки зрения К. Хюбнера, миф представляется в качестве особой онтологической системы опыта, анализирующего глобальные процессы бытия на основе архе (священного первособытия) и сферы нуминозного (божественного, сакрального). Мифологический способ постижения реальности характеризуется следующими чертами: нет разделения материального мира природы и идеального мира человека; соединение общего и индивидуального, предмета и значения, сна и реальности; нуминозные сущности как априори мира мифического опыта, мифическая субстанция пронизывает всё пространство мифологического мира.
Перейдем к рассмотрению мифологического сознания К. Леви-Строссом. В своей основной работе «Первобытное мышление»325 по этому поводу он пишет о том, что мифологическое мышление – это всегда ограниченный набор средств для решения какой-либо жизненной ситуации, которые при этом всегда имеют определенное символическое значение, а их совокупность, в свою очередь, может порождать еще более оригинальные, новые символические значения, оно «оказывается чем-то вроде интеллектуального бриколажа»326. Для их создания сознание субъекта использует различные аналогии и сопоставления, беря в качестве основы информацию из внешнего мира, а то и собственного сознания. Манипуляция этими аналогиями, что самое существенное, как правило, носит бессознательный характер, что влечет за собой возникновение последующих мифологических образов и мотивов. С их помощью древний человек попросту познает новую часть универсума вокруг327
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См.: Фукуяма Ф. Конец истории?// Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134-148.
2
См. подробнее: Платон. Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Часть 1. СПб., 2007.
3
См.: Дионисий Ареопагит. О божественных именах// Мистическое богословие Восточной Церкви. Харьков, 2001.
4
Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991.
5
Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой = The Hero with thousand faces / пер. с англ. А. П. Хомик.– К.,М.: Ваклер; Рефл-бук; АСТ, 1997.
6
Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость/ Пер. с фр. Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой, Науч. консультант Я.В. Чеснов – СПб.: Алетейя, 1998.
7
Эдингер Э.Ф. Эго и архетип/ пер. с англ. М.: ООО Пента График, 2000.
8
См. подробнее: Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях/ пер. с англ. М.: Издат. дом «София», 2005. См. также: Meadow M.J. Archetypes and Patriarchy: Eliade and Jung// Journal of Religion and Health. Fall 1992. Vol. 31, №. 3. P. 187-195; Johnson N.B. Image and archetype: male and female as metaphor in the thought of Carl G. Jung and ogotemmi-li of the Dogon// Dialectical Anthropology. 1998. №13. P. 45-62; de Verteuil R. The Scapegoat Archetype// Journal of Religion and Health. P. 209-225.
9
Барт Р. Мифологии/ пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С.Н.Зенкина. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000.
10
Барт Р. Миф сегодня// Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994. С. 72-130.
11
См. подробнее: Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994.
12
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
13
Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 2006.
14
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек – Текст – Семиосфера – История/ Предисл. В.В. Иванова; Тартус. ун-т. – М.: Яз. рус. культуры, 1998.
15
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.1994; Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1927
16
Маковский М. М. Язык – миф – культура: символы жизни и жизнь символов. Изд. 2-е. М., 2014.
17
Мелетинский Е. М., Поэтика мифа, М., 1976; Мелетинский Е.М. История всемирной литературы. Т.2. Исландские саги. М.: АН СССР,1984; См. также: Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов// Вопросы философии. 1991. № 10.
18
Липовецкий М. Утопия свободной марионетки, или как сделан архетип// Новое литературное обозрение. 2003. № 60.
19
Выход проглоченного наружу как архетип культуры / С.Б. Борисов, В.А. Никульшин // Архетип. 1996: культурологический альманах. – Шадринск, Изд–во Шадринского пединститута, 1996 – С. 44–47; Дева как архетип европейской культуры / С.Б. Борисов // Архетип. 1996: культурологический альманах. – Шадринск: Изд–во Шадринского пединститута, 1996. – С.4–19; Человек. Текст. Культура: очерки по культурной антропологии и истории духовной культуры / С.Б. Борисов. – Шадринск: Изд–во Шадринского пединститута, 2000.
20
См.: Чернявская Ю.В. Идентичность на фоне мифа//Антропологический форум. №8. СПб., 2008, С.198-227. См. также: Чернявская Ю.В. Трикстер или путешествие в хаос// Человек. 2004. № 3.
21
Злотникова Т. С., Ерохина Т. И. Мужской архетип в игровом поле массовой культуры // Вопросы культурологии. М., 2014, №11. С14.
22
Turville-Petre G. Myth and Religion of the North, London, Weidenfeld & Nicolson, 1989.
23
См.: Топорова Т.В. Об архетипе воды в древнегерманской космогонии // Вопросы языкознания. 1996. № 6; Топорова Т.В. Семантическая структура древнегерманской модели мира. М., 1994.
24
Spiegel М. Ancient Germanic warriors: warrior styles from Trayan’s column to Icelandic sagas. Routledge, 2004.
25
1
Гуревич А. Я. Эдда и сага. М.: Наука, 1977; См. также:
Гуревич А.Я. Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов//
Понятие судьбы в контексте разных культур.М.: Наука.
I
полугодие
1994.
С
.148-157.
26
Melnikova E. How Christian Were Viking Christians?//Ruthenica, Suppl. 4, K., 2011, P. 90-107.
27
Хлевов А.А. Предвестники викингов. Северная Европа в I-VIII веках. СПб.: «Евразия», 2002.
28
Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., «Наука», 2000.
29
Стриннгольм А. Походы викингов. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.
30
Делез Ж. Кино. М., 2004.
31
Куртов М.А. Между скукой и грезой. Аналитика киноопыта. СПб., 2012.
32
Аль-Хаким М.А. Развитие киноискусства и философия кинематографа // Молодой ученый. К., 2015. № 4. С. 741-744.
33
Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960.
34
Моль А. Социодинамика культуры. М., 2005.
35
Cover J.G. The Creation of Narrative in Tabletop Role-Playing Games. McFarland, 2010.
36
Barton M. Dungeons and Desktops. The History of Computer Role-Playing Games. Boca Raton: CRC Press, 2008.
37
Computer Games as a Sociocultural Phenomenon. Games Without Frontiers – War Without Tears / A. Jahn-Sudmann (ed.). Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave-MacMillan, 2008.
38
Computer Games and New Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies. New York: Springer Science+Business Media B.V., 2012.
39
Brown A.ML. Sexuality in Role-Playing Games. Routledge, 2015.
40
Bowman S.L. The Functions of Role-Playing Games: How Participants Create Community, Solve Problems and Explore Identity. McFarland.2010.216p; Bowman S. L. Social Conflict in Role-Playing Communities: An Exploratory Qualitative Study//International Journal of Role-Playing, 2013, № 4, P. 17–18.
41
Tresca M.J. The Evolution of Fantasy Role-Playing Games. Publisher: Mc..rla.d, 2010.
42
Mark J.P. Wolf. The video game explosion: a history from Pong to Playstation and beyond / Mark J.P. Wolf (ed.). Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 2008. P. 23.
43
Dovey J. , Kennedy H. W. Games Cultures: Computer Games As New Media. New York, Open University Press, 2006. P. 101.
44
Jessen C. Interpretive Communities: the Reception of Computer Games by Children and the Young., 1998.
45
Деникин А.А. В защиту видеоигр// Медиафилософия. Т.X, №X, 2014, С.24-43.
46
Espen J. Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: JohnsHopkinsUniversity Press, 1997. P. 1.
47
Frasca G. Simulation Versus Narrative: Introduction to Ludology // The Video Game Theory Reader, Mark J.P. Wolf, Bernard Perron (ed.). New York: Routledge, 2003. P. 232.
48
Picard Martin. Art and Aesthetics //The video game theory reader 2, Bernard Perron, Mark J. P. Wolf (ed). NY, London, 2009. P. 334.
49
Molyneux P. The Future of Games // MIT Program in Comparative and Media Studies, Computer and Video Games Come of Age // Videogames and education. Harry J. Brown. NY, London: M.E. Sharpe, Inc., 2008. P. 54.
50
Bogost I. Persuasive games: the expressive power of videogames. Massachusetts Institute of Technology, 2007.
51
Flanagan M. Critical play: radical game design. Massachusetts Institute of Technology, 2009.
52
«Эта практика использования алгоритмов и операций так же, как вербальная риторика, является практикой использования средств языка для убеждения или изменение мнения». См. подробнее: Bogost I. Persuasive Games. The Expressive Power of Videogames. The MIT Press, 2007.
53
2
«Восприятие – процедурное сообщение видеоигры лишь в связи с его визуальным и нарративным содержанием, что обеспечивает четкое разграничение возможных интерпретаций видеоигры от невозможных интерпретаций тем, протекающих в рамках акта коммуникации со специфическим видом актора – искусственным интеллектом игры.» См. подробнее:
Процедурная герменевтика: как мы понимаем видеоигры//
https://yandex.ru/video/preview/14982503972862830567
54
Baerg A. Governmentality, neoliberalism, and the digital game// Symploke Vol.17, №1-2, 2009. P.119.
55
При этом операционная многогранность, по мнению Р. Гамбарто, сама по себе является важнейшей характеристикой трансмедийности. См. подробнее: Gambarato, Renira R. Transmedia Project Design: Theoretical and Analytical Considerations // Baltic Screen Media Review. 2013. № Vol. 1. P. 81–100.
56
Dovey J., Kennedy H. W. Games Cultures: Computer Games As New Media. New York, Open University Press, 2006. P.6.
57
Савицкая Т.Е. Компьютерные игры: опыт культурологического портрета//Обсерватория культуры. №4, М., 2012, С.22-29.
58
Савицкая Т.Е. Компьютерные игры: опыт культурологического портрета//Обсерватория культуры. №4, М., 2012, С.22-29.
59
Галкин Д.В. Компьютерные игры как феномен современной культуры: опыт междисциплинарного исследования // Вестник Томского государственного Университета №3. Т., 2007, С.54-72.
60
Топоров В.Н. К вопросу об универсальных знаковых комплексах // Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. В 2 т. Т. 1. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. С. 11–25.
61
Хренов Н.А. Зрелища в эпоху восстания масс. М.: Наука, 2006.
62
Корецкая М.А. Экранизация мифа: трудности перевода// Вестник Самарской гуманитарной академии. 2010. № 1. С. 13–32.
63
Буглак С.С., Латыпова А.Р., Ленкевич А.С., Очеретяный К.А., Скоморох М.М. Образ другого в компьютерных играх// Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. Т. 33. 2017. № 2. С. 242–253.
64
См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990.
65
См. подробнее: Лотман Ю.М. Семиосфера: Культура и взрыв; Внутри мыслящих миров; Статьи;
Исследования; Заметки. – СПб.: Искусство, 2004.
66
Гесиод Теогония // Полное собрание текстов. / Пер. В.В. Вересаева, О.П. Цыбенко. Вступительная статья В.Н. Ярхо. Комментарии О.П. Цыбенко и В.Н. Ярхо. Лабиринт, 2001.
67
Павсаний. Описание Эллады. СПб, Изд-во «Алетейя», 1996.
68
См. подробнее: Wipprecht F. Zur Entwicklung der rationalistischen Mythendeutung bei den Griechen, 1–2. Tübingen, 1902–1908; Buffier F. Les mythes d'Homere еt la pensée grecque. Paris, 1956.
69
Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость/ Пер. с фр. Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой, Науч. консультант Я.В. Чеснов – СПб.: Алетейя, 1998. С.28.
70
Дионисий Ареопагит. О божественных именах//
Мистическое богословие Восточной Церкви. Харьков, 2001. С.386-571
.
71
Аверинцев С.С. Символ в искусстве // Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1962-1978. Т. 7. 1972. С.268.
72
Об учении см. подробнее: Секст Эмпирик. Сочинения. В 2 т. / Пер. Брюлловой-Шаскольской Н.В., Лосева А.Ф. М.: Мысль, 1976.
73
«Законы», 664а.
74
Евстафий, Комментарии к « Илиаде » , XIX, p. 1190. Ed. Stallbaum, Leipzig, 1825-1830.
75
Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 1. С. 97.
76
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. С. 136.
77
Цицерон. О природе богов // Цицерон. Философские трактаты. С. 74-75.
78
Материалисты Древней Греции. М.: Госполитиздат, С.209.
79
Плутарх. Об общих представлениях. 31, 1075 аЬ.
80
Dumesil G. Mytheet epopee. P., 1978; Grant M. Op.cit., S.249, 259; Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Рима. М., 1987. С.17.
81
Campbell B. War and society in the imperial Rome 31 BC – AD 284.L., 2002. P.61.
82
Gradel I. Emperor Worship and Roman Religion. ClarendonPress, Oxford, 2002, P.234-252.
83
В настоящее время, как справедливо отмечает Б. Гатц, стало «почти канонической ошибкой» переводить овидиевские «aetas» и «proles» как «век», хотя «золотой век» в подавляющем большинство случаев обозначался с помощью «saeculum». Определение «aureaaetas», встречающееся в традиции всего 7 раз (из них 2 – у Овидия, остальные у более поздних авторов), стоит гораздо ближе к гесиодовско-аратовской «родовой» терминологии и должно переводиться как «золотое поколение». «Вековое» значение aetas начинает приобретать только в поздней античности (у Симмаха), войдя в этом значении в некоторые европейские языки: Gatz B. Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen. (Spudasmata, №16). Hildesheim, 1967, S. 75. 205 f.; См.:Baldry H.C. Who invented the golden age? // Classical quarterly. Vol. 46. 1952. №. 1. P. 89.
84
См. Gatz B. Weltalter, S. 73; Чернышов Ю.Г. О возникновении понятия «золотой век» // Проблемы политической истории античного общества. – Л., 1985. С. 124-132; Он же. Характерные черты греческой социальной утопии // Социальная структура и идеология античности и раннего средневековья. Барнаул, 1989. С. 5-9.
85
Вергилий (VI, 792;. VIII, 324).
86
Gradel I. Emperor Worship and Roman Religion Clarendon Press, Oxford, 2002, P.196.
87
Op sit. P.234-236.
88
Gatz B. Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen. (Spudasmata, 16). Hildesheim, 1967. S. 108.
89
Тит Ливий История Рима от основания города. Т.I, М., 1989. С.194.
90
Тит Ливий. Указ соч. С.276.
91
Liv., V, 23, 5-6.
92
Grant M., Op. cit., S.56.
93
Grant M., Op.cit. S.56.
94
Grant M., Op.cit. S.252.
95
Утченко С.Л. Политические учения древнего Рима. М., 1977. С.120.
96
Weber E. Tabula Peutengeriana. Poznan, 1996. S.12-14.
97
Традиция представлять Imperium Romanum как orbisterrarum сохранилась в римской картографии, в частности, на знаменитой Tabula Peutengeriana, хотя географические знания римлян об окружающем империю мире были весьма обширны.
98
Г. Альфельди, посвятивший августовой эпиграфике специальную работу, указывает, что от всего республиканского периода сохранилось 3000 монументальных надписей, тогда как от эпохи империи, прежде всего принципата, – около 300000. Alfoeldy G. August iinskrypcje: tradycja iinnowacje. Narodziny epigrafikii mperialnej. Poznan. 1994. S.7-8.
99
Высота надписей достигала нескольких десятков сантиметров, а буквы часто выливались из позолоченной бронзы и крепились к основе специальными гвоздиками. Alfoeldy G. Op. cit. S.13.
100
Чернышов Ю.Г. Социально-утопические идеи и миф о «золотом веке». Часть 2. Новосибирск, 1994. С.7.
101
Подробнее см.: Егоров А.Б. Добродетели щита Августа // Сборник памяти академика В.В. Струве. Санкт-Петербург, 1995. С.280-293.
102
Колобов А.В., Гущин В.Р., Братухин А.Ю. Античная мифология в историческом контексте. СПб., 2004. С.122.
103
Там же. С.123.
104
Абрамзон М.Г. Римская армия и ее лидер по данным нумизматики. Челябинск, 1994; Он же. Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи. М., 1995.
105
Абрамзон М.Г. Римская армия и ее лидер по данным нумизматики. Челябинск, 1994. С.37.
106
Абрамзон М.Г. Монеты как средство пропаганды официальной политики. М., 1995. C.337.
107
Bishop M. Coulston J. Roman Military Equipment from the Punic Wars to the Fall of Rome. London, 1993, P.97, 119.
108
Абрамзон М.Г. Указ.соч., C.338; Um K., Deschler-Erb E. Op. cit., n.2404, S.62.
109
Grant M. Roman History from Coins.Cambridge, 1968. P 23.
110
Абрамзон М.Г. Монеты как средство пропаганды официальной политики. М., 1995, С.483.
111
Найдыш В.М. Мифология. М. Кнорус, 2010. С.90.
112
Там же. С.93.