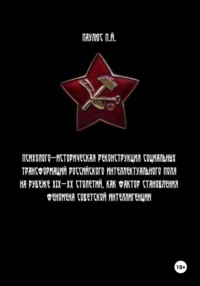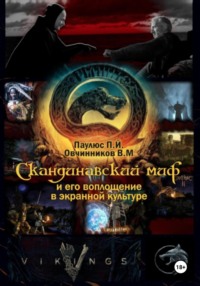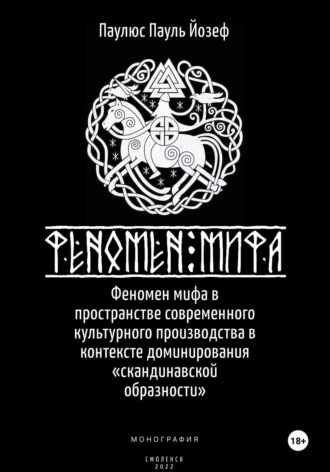
Полная версия
Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности»
Рассуждая о природе мифа, обращаясь как к вопросу природы власти и ее божественности, активно анализировал вопрос о познании божественных истин уже характеризуемый Т. Гоббс, который опирался на концепцию «деструктивности естественного состояния человечества», сопряженного с хаотической активностью. Он отталкивался при этом от феномена «общественного договора», обеспечивающего кроме всего прочего оформление феномена «мифа абсолютизма», как особого политического концепта, концентрировался на вопросе познания Абсолюта, каковым он именовал Бога, характеризуя последнего в качестве первопричины бытия, во многом развивая идеи Аристотеля. Он трактовал Бога с позиции зрелого антропоцентризма, учитывая целый комплекс субъективных факторов, как-то:
I. Стремление «доискиваться причин наблюдаемых явлений»176.
II. Анализивать причины бытийных явлений, оперируя как инструментом познания «собственной фантазией»177;
III. Желание преодолеть «постоянный страх, всегда сопровождающий человеческий род»178;
IV. «Не имея возможности найти видимый объект, люди считают виновником своего счастья или несчастья какую-то власть или невидимую силу»179. Обозначенные факторы в соответствии с размышлениями английского мыслителя порождали мифологию, как особый комплекс представлений, который вполне мог оформить «политический миф», демонстрирующий «подданным те обязанности, исполнять которые требуют от них земные цари»180.
Дальнейшим развитием описываемых трактовок стал пантеизм Б. Спинозы, провозглашавшего познание божественного через рационализированное поклонение и любовь к Абсолюту, демонстрируя при этом морализаторские коннотации характеризуемого явления, что не мешало, однако, его вере оставаться «в сердце, а не уме»181. Спиноза демонстративно опровергает идею божественного откровения, окончательно провозглашая миф субъективным фактором социального развития, не порывая при этом в полной мере с аллегорической интерпретацией мифа. По мнению философа, священные тексты и в частности Библия «содержат не возвышенные умозрения и не философские вопросы, но вещи только самые простые, которые могут быть восприняты даже каким угодно тупицей»182, возводя тем самым в Абсолют морализаторскую составляющую, демонстрируя при этом, что «текст» – это не что иное, как своего рода субстрат массового сознания той или иной эпохи, находящий воплощение в системе моральных норм и нравоучительных правил. Соответственно, священные тексты – это в первую очередь исторические источники, субъективные и в ряде случаев не совсем точные. Примером подобных рассуждений стал анализ Моисеева Пятикнижия – древнейшей части Ветхого Завета, по мнению философа, созданного далеко не одним человеком. Довольно часто в качестве талантливого компилятора им упоминался книжник Ездра, который привел Пятикнижие и книгу Иисуса Навина в их современный вид, при этом в его анализе присутствовала уверенность в том, что «священные книги» были написаны «не одним-единственным человеком и не для народа одной эпохи, но многими мужами различного таланта в разные века. Если бы мы пожелали сосчитать время, захватываемое всеми ими, то получилось бы почти две тысячи лет, а может быть, и гораздо больше»183.
Теоретизированные философские изыскания европейских мыслителей, рассматривая природу мифа, как основы «рационализированной религии», и специфику его практического применения в политической жизни, формируют новую мифологию на основе принципа инструментализации античного наследия, обеспечивающую возможность в дальнейшем рационализировать концепт мифа и более подробно, учитывая его морализаторскую составляющую.
Одним из первых, кто обратил внимание на миф как особую теоретическую конструкцию, требующую глубокого анализа, был Дж. Вико. Он выводит понятие мифологического мышления, давая его базовые характеристики и подчеркивая, что миф в высшей степени активно влияет на жизнь социума, является философски-художественной адаптацией реалий действительности, представляя таким образом механизм трансформации феномена «культурного ландшафта». В своем трактате «Основания новой науки об общей природе наций» мыслитель отмечает «реализм» мифа как формы отображения политических событий, подчеркивая, что всё же он эмоционален и ярок, повествователен и аллегоричен. Призывая к теоретизации мифического повествования, Вико активно пропагандировал принципы концепции демифологизации. Следуя традициям эпохи, философ признавал, что необходимо вытеснение образов и стереотипов мифологического сознания, порождающих веру, «будто все необходимые или полезные для рода человеческого вещи суть божества»184.
В то же время он подчеркивал особую значимость мифа как фактора духовной консолидации общества, видя в инструментализации элементов античной политической мифологии инструмент укрепления формирующихся централизованных государств своей эпохи, рассуждая, что «человек вследствие бесконечной природы человеческого ума делает самого себя правилом Вселенной там, где ум теряется от незнания»185. Вико выделяет ряд структурообразующих закономерностей, лежащих в основе мифологического творчества:
I. С развитием рационального мышления, способности к мыслительному абстрагированию первобытные фантастические образы всё менее насыщаются воображением и эмоциями и постепенно редуцируются до уровня «малых знаков».
II. Мифы с необходимостью превращаются в аллегории, которые содержат в себе два главных признака мифа: одушевление вещей и обобщение вещей и их отношений.
III. Мифотворчество теснейшим образом связано с поэтической метафорой, «каждая метафора оказывается маленьким мифом»186. Такими же маленькими мифами являются метонимии и синекдохи. Все поэтические превращения мифа суть следствия неумения «абстрагировать форму и свойства от субъекта»187.
IV. Мифологическое сознание было направлено исключительно на частности и не умело схватывать мыслью целое. Поэтому миф как поэтическая Фантастическая Универсалия исторически предшествует рациональной Философской Универсалии, которая возникает уже на основе прозаической речи и обладает способностью постигать целое.
Один из свидетелей взлета мысли эпохи «Великого века» и участник знаменитого спора «о древних и новых» Бернар Ле Бовье де Фонтенель188 активно рассматривал природу мифа, критикуя при этом столь популярную мифологему о «благородном дикаре», активно возвышаемую впоследствии Ж.-Ж. Руссо. Следуя традициям эпохи, сомнение возводилось в абсолют, позволяя сосуществовать аллегорической и демифологизаторской трактовкам мифа, хотя при этом анализ последнего был в основном линейным, что и порождало произведения наподобие «Трактата о трех великих лжецах». Тем не менее, Фонтенель склонен видеть в прошлом человечества лишь невежество и возведение насилия в абсолют, а также рождение мифа как попытки создания идеальной реальности, контрастирующей с миром, в котором господствует «право сильного».
Миф, по его мнению, формируют особое восприятие социального бытия, которое формирует устойчивое мировосприятие. Иными словами, миф порождает собственную «истину», которая укореняется в массовом сознании, сосуществуя с реальным положением вещей и изменяя его. Миф – как механизм формирования культурного ландшафта, как идеализированный образ, к которому стремится человек, конструкт рационального познания бытия, переплетающийся с идеализированным образом «Космоса», дополняемый многочисленными стереотипами массового сознания, и все они сведены воедино, порождая «образ золотого века».
Этой же проблемой активно занимался Николя Буланже, видевший в основе истории мифологии и религии описание глобальных катастроф, стремление понять их природу и сохранить в сознании. Различного рода изменения, будь то климатические метаморфозы или же движения небесных светил, порождали обряды, призванные сохранить и объяснить скрытый смысл увиденного. Доказательством его трактовки, по мнению мыслителя, была, возможно, систематизация всего огромного массива различных обрядов и разделение их на несколько групп: меморативные, погребальные, таинственные, циклические, исторические и пр189. В равной степени, как и Геродот, он видел, что в основе истории, как и мифа, лежит «тайна». В культе астрономических явлений искал первопричину всех мифов Ш.Ф. Дюпуи, будучи уверенным, что в основе мифологического восприятия лежит антагонизм света и тьмы, анализируемый человеком через призму мифа190. Эту идею развивала натурфилософия и большинство религиозных систем, в которых особую роль играли солярные символы.
.4.
Миф в реалиях «научной революции» в Европе.
Уделял внимание мифу, как составной части религии, и Дэвид Юм, который подходил к проблеме с позиции сенсуалистического феноменализма, опираясь на выделение в структуре сознания атомарные «впечатления» (impressions), т.е. ощущения и восприятие и производные от них психические образования, среди которых особое внимание уделялось «идеям» как комплексу, порождающему концепт мифа ассоциаций. При этом философ довольно критически относился к попыткам своих современников и предшественников объяснить природу оформления религии и мифа как ее основы во врожденных представлениях или же к попыткам элиты манипулировать массовым сознанием или борьбой с природным страхом неизвестного. Он был уверен, что миф – это лишь результат удовлетворения потребностей древнейшего человека, и основная из них – «извечное стремление к счастью». В подобном контексте рассматривал природу первобытной обрядности и ее мифологические корни Шарль де Бросс, обозначивший, проанализировавший и внесший в научный оборот понятие фетишизм, связанный с обожествлением человеком окружающего его мира, демонстрируя при этом специфический антагонизм: субъект «присоединяет невидимую силу к видимому предмету и не отличает материальный предмет от той разумной силы, которую он в нем предположил»191. В результате «среди наиболее древних народов мира одни, совершенно дикие и грубые, погрязли во власти суеверной тупости и чтут эти странные земные божества, в то время как другие, менее безрассудные, почитают солнце и звезды. Эти два вида религий – богатые источники для восточной и греческой мифологии; они и более древние, чем собственно идолопоклонство»192. Ш. де Бросс предполагал, что стремление понять всю глубину связи между человеком и обожествляемой им природой и ее явлениями и сформировали фундамент концепта мифа, формирующего культурные ландшафты различных регионов. С другой стороны, столь яркие деятели Просвещения, такие как Фр. Вольтер и Д. Дидро, видели в мифологии лишь предрассудки, суеверие и заблуждения некритического ума, которые являлись главными препятствиями на пути к «разумной» жизни.
Иммануил Кант стоял на позициях, которые оспаривал Шарль де Бросс, будучи уверенным, что основой мифа, является страх, связанный обычно с переживанием «неисполненного долга», сочетаясь с безграничным человеческим воображением, что формирует понимание божественного в виде многочисленных высших запретов и норм долженствования, страх перед которыми влечет за собой появление искупительной жертвы – конструкции, влияющей на оформление мифа, который появляется вследствие соединения эмпирической и морализаторской составляющих формирующейся веры. Описываемая трактовка стимулирует особый интерес к феномену поэтики и символики мифа, который проявился в творчестве романтиков (братьев Шлегель, Хр.Г. Гейне, Ф.В. Шеллинга), которые подвергли критике идеалы эпохи Просвещения и выдвинули на первый план идею целостного, гармоничного мировосприятия.
Обобщая принципы романтизма, который тяготел к анализу символики мифа и философского символизма мифотворчества, упомянутые ранее мыслители видели в мифе объективную категорию, являющуюся своего рода субстратом «народного духа», подтверждением чего было выделение смысловых контекстов мифотворчества – натуральных (включающих в себя биологический и социальный компоненты) и трансцендентных. Возведение символизма в абсолют стало основой формирования принципов компаративного анализа, в основе которого лежало сравнение мифа с иными формами культуры, что находит свое отражение в трудах Фридриха Шеллинга и Жозефа Франсуа Лафито, которые в первую очередь уделяли внимание смысловой основе различных символов. При этом романтики стояли перед сложнейшей проблемой осознания деструктивности рационального познания, которое в виде «научной картины мира» обеспечивало потерю связи между человеком и универсумом, и именно миф как комплекс символов, по их мнению, был единственной возможностью восстановления гармонии между духом и материей, что в свою очередь и вело романтиков по пути рассмотрения «космоса» через призму эстетики, уделяя внимание символизму и мистицизму художественных и поэтических образов, которые и обеспечивали восстановление баланса и познание мира через стихию таинственных смыслов посредством мифа и символов.
Стоит обратить внимание на характерные для романтизма трактовки символа как базовой составляющей мифа. Характеризуемый феномен рассматривался в качестве проявления антагонизма – сочетания бесконечного и сокрытого в конечном, то есть локализованном и открытом конкретно-чувственном образе. Бесконечное есть абсолютизированная категория, связываемая в тот период с пониманием божественного, что определяло уделение внимания мистической составляющей, ориентирующей символическую трактовку мифа на постижение трансцендентных смыслов мифотворчества, что находит отражение в рассуждениях Фридриха Крейцера, видевшего в мифе богатейшую символику бесконечного, анализ которой является основным путем философствования и научной рефлексии в рамках познания мироздания (Космоса). Как следствие, философ в рамках его концепции универсального единства религий выделял миф в качестве уникальной категории, в рамках которой прослеживается комплекс «мистических символов», отражающих некоторые грани природы бесконечного и «символы пластические», демонстрирующие локализацию пространства бесконечного в замкнутые формы. Таким образом, любые гротескные образы, фигурирующие в мифе в первую очередь, должны раскрыть символику бесконечного и показать через образы древнейших богов и героев, как «красота формы объединялась с высочайшей полнотой сущности»193. Демонстрируя эффект переплетения мистической и пластической символик, философ активно обращался к восточной философской традиции, в который искались подтверждения тезиса о том, что миф есть древнейшая символическая форма, олицетворяющая мудрость человечества, ставшая откровением, полученным от Творца, символизирующего бесконечность. Примером подобного откровения Крейцер считал ведическую традицию, с которой в тот период активно знакомилась Европа.
В работах Ф.В. Шеллинга миф рассматривается преимущественно как эстетический феномен, как прототип художественного творчества, имеющий глубокое символическое значение для развития искусства. «Мифология есть необходимое условие и первичный материал для всякого искусства, – пишет Ф.В. Шеллинг. – Она (мифология) есть мир и, так сказать, почва, на которой только и могут расцветать и произрастать произведения искусства. Только в пределах такого мира возможны устойчивые и определенные образы, через которые только и могут получить выражение вечные понятия»194.
Во «Введение в философию мифологии» мыслитель демонстрирует несостоятельность аллегорического и евгемерического толкований природы мифа, по причине отрицания последними возможности формирования самостоятельной реальности и сохранения истинности неких событий. Возникновение мифологических представлений Ф.В. Шеллинг связывает с развитием единого поля человеческой культуры, фундаментом которой является комплекс мифов, определяющий специфику развития того или иного региона, подчеркивая при этом, что «народ обретает мифологию не в истории, наоборот, мифология определяет его историю, или, лучше сказать, она не определяет историю, а есть его судьба (как характер человека – это его судьба), мифология – это с самого начала выпавший ему жребий»195. Следствием этого становилось также рассуждение о превалировании сознания в рамках концепта мифотворчества, демонстрируя торжество антропоцентризма, что требовало отказа от принципов натурфилософии, столь боготворимой в период Ренессанса и, в ряде случаев, и в эпоху раннего нового времени.
В трактате «Система трансцендентного идеализма» Шеллинг дополняет свою концепцию мифотворчества принципом тождества мышления, которое он объясняет с позиции формирования человеческого сознания, как воплощения субъективности в качестве высшей точки развития природы, объективной по своей природе, причем высшей точкой развития субъективного фактора станет его отождествление с объективным, иными словами, наблюдается эффект полного взаимопроникновения материального и идеального. Интерес к подобного рода интерпретации бытия может быть обнаружен в трудах Гегеля, однако, в отличие от Шеллинга, он не видит применения этого феномена в искусстве и мифотворчестве, подчеркивая при этом, что в искусстве и мифе проявляется «бесконечность и бессознательность», возвышающаяся над наукой и философией. При этом, в отличие от многих романтиков, он убежден, что искусство во всех своих творческих формах (включая мифотворчество) познаваемо философией, и притом познаваемо полностью. Можно предположить, что на основании шеллинговской концепции мифотворчества формируется и его трактовка идеи полного тождества субъекта и объекта, соответственно, формирование «идеи в философии и боги в искусстве – одно и то же»196. Мифологические образы «суть не что иное, как идеи философии, но созерцаемые объективно или реально»197. Мыслитель рассматривает феномен мифотворчества в качестве синтеза природы и абсолютной свободы, соединяющих субъективное и объективное, порождая особый механизм познания бытия, являющийся культурообразующим фактором, в котором проявляется стремление к абсолютному (или же божественному). Фактически же мифотворчество глубоко символично за счет отражения эволюции форм познания абсолюта. Этот процесс виделся философу как явление историческое, являющееся неотъемлемой частью развития человеческой цивилизации. При этом продолжая следовать романтической традиции вплоть до конца жизни, Шеллинг дополнил созданную им конструкцию объяснения природы мифа его «философией откровения», основанной на влиянии теокосмогонического начала, определяющегося рядом потенций: возможность бытия, его необходимость, долженствование и упорядочивание, которые определяют «мифологический процесс», в рамках которого прослеживается несколько периодов.
Однако у истоков этого подхода мы можем обнаружить таких выдающихся философов, литераторов и общественных деятелей, как И.В. Гете, Ф. Шиллер, И. Винкельман, К.Ф. Мориц, К.А. Бёттингер198, отождествлявших миф, поэзию и истину. К ним относится И.Г. Гердер, который замечал, что «миф содержит символы и иероглифы божественного. Причина и природа мифа сверхчеловечны»199.
Нельзя не заметить, что в рассуждениях романтиков присутствует очевидное «кантовское влияние», которое наиболее ярко прослеживается в трудах Шиллера и Гете, которые постулизировали концепцию свободной игры, демонстрирующей в мифе своего рода «круговорот творческой энергии», выходящий за пределы в полной мере осознаваемых интеллектуальных и образных средств выражения, что как концепцию развивает К.Ф.Мориц, видевший в мифе поэтическую праформу человеческой духовности. Устойчивый интерес европейских мыслителей, продолжающих превозносить греко-римские идеалы, проникнул и в Восточную Европу, где укрепился в реалиях реализации концепции Просвещенного абсолютизма, но на тот момент в российской философской и исторической мысли не сформировалось самобытной трактовки феномена мифа.
И европейские, и российские интеллектуалы в равной степени были восхищены умозаключениями Фридриха Вильгельма Гегеля, который в отличие от романтиков абсолютизировал рационализм, доведя его до крайних форм, таких как панлогицизм. Он отвергал возможность «тождества мышления и бытия», в том числе и при рассмотрении мифотворчества, полностью доверяясь разуму, утверждая, что миф – закономерная фаза развертывания Абсолютного духа, форма развития самого себя постигающего логического мышления, «форма изложения, которая… вносит чувственные образы, изготовленные для представления, а не для мысли»200. Гегель предлагает рассматривать проблему мифа рационалистически: «только в понятии истина обладает стихией своего существования»201. Феномен мифотворчества он рассматривал в контексте бытия абсолюта, демонстрируя трансформацию от чувственного созерцания к понятийному мышлению, не отказываясь при этом в полной мере от «романтической» трактовки, видя в разного рода символах метаморфозы изменения Абсолютного духа, ибо ту «эпоху, когда народы создавали свои мифы, они жили поэзией, и поэтому осознавали свои самые внутренние и глубокие переживания не в форме мысли, а в образах фантазии, не отрывая общих абстрактных представлений от конкретных образов»202. В равной степени как творец, сравнимый с аристотелевскм демиургом, наделенным «Нус», воплощая собственные идеи как целостный концепт, выражает одну из многочисленных граней смысла Абсолютного духа, так и миф, «лишенный творца», олицетворяет его внутреннюю сущность, и познать его возможно за счет глубокого анализа, отделив от многочисленных напластований, отражающих видение смысла мифа в различные исторически периоды. Полученное бесценное знание позволяет открыть картину постижения божественного, как духовного Абсолюта, через созерцание бытия, сокрытого в мифе. Описать специфику выделенных процессов Гегель пытался в рамках своих работ «Эстетика» и «Философия религии», опираясь на богатейший эмпирический материал, собранный Ф. Кройцером, на основе которого он и смог охарактеризовать миф в качестве объективно обусловленной формы бытия Абсолютного духа, обеспечивающей формирование постигающего бытие логического мышления, что обозначалось как панлогицизм.
Миф в гегелевской трактовке, таким образом, есть форма чувственно-образного постижения мира, как «форма изложения, которая… вносит чувственные образы, изготовленные для представления, а не для мысли»203. Но при этом миф не становится формой иллюзорного, ведущего к субъективному произволу, а превращается в протосистему рационального постижения истины, проявляющуюся в одушевлении стихий и энергии, порождающих богов и религию. Этот тезис раскрывается в Эстетике посредством анализа древнейшего мифотворчества, связанного с антропоморфной символикой, характерной для большинства народов. Мифология у Гегеля – это пройденная и «снятая» ступень в истории саморазвития Абсолютного духа. С его точки зрения, мифология уже давно преодолена высшими рациональными формами сознания.
В реалиях наступающей эпохи позитивизма философское понимание мифа активно дополнялось особой научной методологией, выступавшей фактором своеобразной интеграции концепта мифа в механизм научного познания. Значительный вклад в оформление подобного синтеза внес Иоган Якоб Баховен – один из крупнейших исследователей первобытного периода своей эпохи, определивший оформление парадигмы историко-культурных исследований в области рассмотрения феномена первобытного мифотворчества. Исследователь активно оперирует принципом историзма, отталкиваясь от классического принципа той эпохи «пишите историю такой, какой она была на самом деле». При этом историзм он трактует в качестве линии центробежного движения эволюционного порядка, которая «в общем и целом нигде не знает скачков и внезапного прогресса; всюду – постепенные переходы, всюду – множество ступеней, каждая из которых в известной степени включает в себя и предыдущую, и последующую»204, призывая при этом к выявлению различного рода закономерностей, основанных зачастую на последовательности и стадиальности. Уделяется внимание также различного рода антагонизмам, в ряде случаев определяющих оформление феномена мифа, как и теории эволюционизма, являющейся «гарантией внутренней истинности и природной необходимости»205. На основе выявления закономерностей в рамках взаимодействия описываемых механизмов Баховен разрабатывает основы сравнительно-исторического метода анализа базовых форм культуры. В рамках развития мифа как особой теоретической конструкции он выделяет несколько этапов его становления, патриархальный и матриархальный, постулируя тезис о том, что миф является концентрированным выражением своей эпохи. Как следствие, мифология трактовалась им как «истинный, отмеченный высокой надежностью исторический источник»206, примером чего может считаться баховенская историко-философская трактовка эсхиловой трилогии «Орестея», демонстрирующая антагонизм мужского и женского начал в массовом сознании эллинов эпохи архаики и классики.
Баховен наряду с романтиками определил возрождение «ремифологизаторской» линии интерпретации мифа в европейской культуре, опираясь на принципы научного поиска, стремясь выяснить место мифа в поле культуры и его влияние на бытие человека. Развитие этой традиции можно обнаружить в размышлениях Фридриха Ницше: в «Рождении трагедии из духа музыки» он видит в мифе базис развития культуры, в которой, по его мнению, проявляются деструктивные коннотации именно в условиях потери способности к мифоэическому творчеству. Иными словами, миф не только целесообразен, но и необходим для оформления феномена культурного ландшафта. Поэтому Ф. Ницше призывает обратиться к утраченной силе мифа как необходимому средству обновления человека и культуры. «А без мифа всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной силы: лишь обставленный мифами горизонт замыкает целое культурное движение в законченное целое. Все силы фантазии и апполонических грез только мифом спасаются от бесцельного блуждания»207.