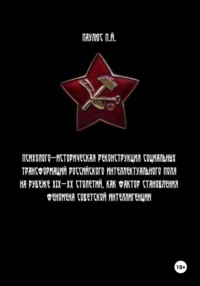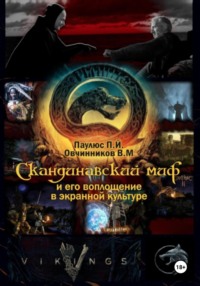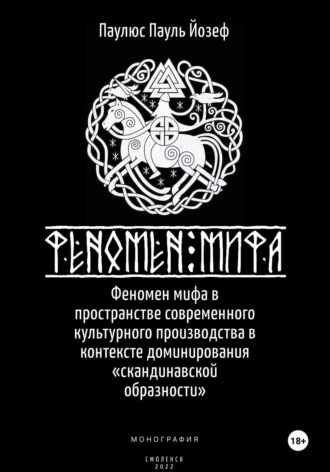
Полная версия
Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности»
Таким образом, ренессансная аллегорическая концепция мифа заложила основы формирования европейской науки, в том числе исследующей миф как «срез эпохи», однако в условиях трансформации ренессансных идей в рационализм эпохи раннего нового времени аллегоризация и символизация античной мифологии стали рассматриваться не более чем проявления идеализма, лишь отдаляющие от поиска истины, искомой человеком, на смену которой должна прийти более объективная доктрина анализа закономерностей окружающего мира. Так, например, Эразм Роттердамский подчеркивал, что аллегоризм схватывает только букву, но не дух истории: «Подобно тому, как невелик прок от божественного писания, если ты станешь упрямиться и настаивать на букве, так немного пользы принесет и поэзия Гомера с Вергилием, если ты будешь думать, что вся она аллегорична»136. Однако новой теоретической доктрины в области науки о сущности мифотворчества гуманисты XV-XVI вв. предложить не смогли. Это было сделано позже, в эпоху Раннего нового времени и следовавшего за ним Просвещения, обогащенного новым культурно-историческим опытом.
В реалиях эпохи раннего нового времени на теоретическом уровне в виде оформления феномена европоцентризма и дальнейшем развитии политической мифологии в виде доктрины абсолютизма и на практическом, подразумевающем видоизменение массового сознания, начинается трансформация феномена мифа в рамках «эпохи Великих Географических открытий», наложившейся на реалии военной, научной и политической революций. Знакомство многочисленных миссионеров, таких как Кристобаль де Молина или же Хуан Поло де Ондегардо-и-Сарате и ряда прочих137, с традициями культур Месоамерики, а также активное исследование азиатского региона заставили европейцев пересмотреть собственное восприятие природы мифа в контексте столкновения с «живым мифотворчеством». Как следствие, начинают появляться предпосылки оформления комплекса дисциплин, рассматривающих различные аспекты первобытной культуры и в первую очередь мифологии, что порождало широчайший спектр оценок морального плана. На первом этапе трактовка была безапелляционна и однозначна: дикари погрязли во грехе, продав свои души дьяволу, превратившись в исчадия ада, предающихся оргиям и каннибализму. В то же время на фоне дальнейшей инструментализщации античного наследия возрождался миф о «золотом веке» и вытекающий из него образ благородного дикаря, нашедший отражение в философии эпохи Просвещения. Появлялись аналогии с ранним христианством наряду с рассмотрением «дикарей» и новообращенных как язычников. Подобные трактовки были связаны с отрицанием в общественном сознании возможности выявить закономерность в общественном развитии. Во многом образ «непоглощенного цивилизацией дикаря» становится дальнейшим развитием мировоззренческих идеалов Возрождения, демонстрируя новые философские и морально-этические аспекты восприятия мифа, что воплотилось в рассуждениях Фенелона и Д. Вераса, а затем и Ж.-Ж.Руссо. Фоном подобного переосмысления мифа становится оформление принципов «естественного права», выводящих тезисы о «естественном состоянии» и «общественном договоре».
Уже в конце XVI – в начале XVII столетий среди видных европейских мыслителей шла дискуссия о полномочиях и власти монарха. Рассматривая деятельность монарха через его законопроекты, большинство приходило к принципу идентификации монарха и государства, так как старания правителя были направлены на пользу государству и параллельно с этим на укрепление монархии, что возвращает к феномену политической мифологии. Французские мыслители, такие как Ж. Боден138 и С. Саварон139, подчеркивали, что лишь при условии централизации государства в экономической и политических сферах может появиться сильная монархия, а правитель станет гарантом стабильности в стране140. В свою очередь Саварон подвергся настоящему нападению со стороны своих ученых коллег из парижского университета, предположив, что монарх не мог быть выше закона в своей деятельности141. В основном же провозглашался принцип государственного интереса, который накладывал на монарха лишь некоторые ограничения морального плана, что в тот довольно прагматичный век считалось несущественным. Если к этому добавить мнение малоизвестного французского провинциального автора XVII столетия М. Баррикайва, подчеркивавшего верховную власть правителя на всей территории в его государстве, его «истинное право властелина»142, то становится очевидным, что, внедряя в жизнь подобные идеи, общество пыталось защитить себя от социальных потрясений. Таким образом, монарху давалась возможность контролировать весь государственный механизм, как утверждал Ж.-Б. Боссюэ, при этом осознавая, что, руководствуясь интересами государства, правитель не будет затрагивать такую сферу, как фундаментальные основы механизма управления государством, что может привести к дисбалансу общественного развития143. Представляется, что это было механизмом защиты от тирании, который в то же время делал государственный механизм более динамичным.
Несомненно, на развитие теории и практики абсолютизма как «политического мифа» своей эпохи повлияла философия неостоицизма, рассматривающая вопросы подчинения человека идеалам высшего блага. Это философское учение, воссозданное еще в период Возрождения и подвергшееся значительным коррективам со стороны видного голландского юриста Юста Липсия, было проникнуто идеей стабильности и подчинения высшему благу144. В эпоху нестабильности и изменчивости судеб целых народов он выдвигал тезис о главенстве самосовершенствования и самодисциплины, который переносился не только на отдельно взятых людей, но и на целые политические системы. Неумеренная жестокость аристократии, по мнению Липсия, могла быть ограничена лишь сменой морально-этических ценностей, выводя на первое место вместо удачи («fortuna») дисциплину («disciplina») и повиновение («oboedientia»), таким образом давая монарху огромные полномочия, но также и делая его символом и олицетворением государственности, призванным заботиться об общественном благе. Еще одним существенным элементом данной доктрины было выведение также целой иерархии обмана, которая, наравне с таким инструментом, как величие («majestas»), должна была быть основным инструментом монархии в создании четко иерархизированного общества, которое было монолитным благодаря власти монарха. Также указывалось, что для благополучия и величия государства правитель вправе нарушать договоры (perfidia) и даже игнорировать законы и права своих подданных (injustitia)145.
Липсий аргументировал свои идеи, ориентируясь, в первую очередь, на римскую историю, идеализируя период правления Августа (31 г. до н.э. – 14 г. н.э.), который сконцентрировал в своих руках всю полноту власти для выхода из тяжелейшего политического кризиса146. В этом отношении, по нашему мнению, можно отметить ярко выраженную преемственность политических аспектов концепций «римского мифа» и абсолютизма.
Нельзя не заметить, что в данном случае прослеживается, кроме всего прочего, влияние естественного права, на что указывает Боссюэ; монарх, в первую очередь, – это элемент общего механизма, отвечающий за исправность всей системы147. Привлекательность абсолютизма в данном случае как раз в том, что он наиболее отдален от анархии, а гражданские войны дают в обществе довольно живое представление об этом явлении, и при выборе между анархией и порядком ответ основных групп населения очевиден. Их замкнутость обуславливала значительные изменения в социальном составе общества и поддерживала развитие огромного бюрократического аппарата, которое, по мнению П. Андерсона, вело к межгосударственному взаимодействию148, причем как на политическом, так и на экономическом уровне149, что обуславливало распространение абсолютистской формы правления в Европе. Фактическим следствием подобного процесса была общая милитаризация государства150.
Ведь наравне с напряжением, связанным с внешней политикой государства, общество испытывало значительное внутреннее напряжение, основанное на значительных изменениях в его внутренней структуре; довольно часто подобное взаимодействие было основано по принципу вертикальных связей между различными классами общества151, что обуславливало их взаимодействие.
Пожалуй, одним из его важнейших заимствований в рамках построения «нового мифа» на основе римского в политической жизни европейских стран эпохи раннего нового времени может считаться деятельность Людовика XIV, который наряду с созданием особого образа монарха применял римские практики управления государством, основанные на сбалансированном взаимодействии таких механизмов, как: военный, бюрократический и придворный – каждый из которых был подчинен непосредственно монарху, для чего активно использовался античный принцип клиентелы152.
Можно предположить, что схожая военно-политическая обстановка обусловила использование схожих методов выхода из кризиса. Как и Август, Король-Солнце применял такие пропагандистские приемы, как монументальное строительство, эпиграфику, а также фалеристику.
Ставя во главу угла «величие государства», Людовик XIV, ориентируясь в первую очередь на античные образцы ведения пропаганды, пытался воспользоваться этим аспектом античного наследия, на основании чего образ самого монарха и его царствования предстает в совершенно ином свете, нежели это описывают Л. Сен-Симон и М.Ф. Вольтер153. Как уже подчеркивалось ранее, основополагающим принципом был тезис о величии государства, то есть военная мощь. Реализовался этот принцип не только посредством использования мощной армии, но, что более важно, созданием своеобразного ореола побед, которые лавровым венком возлагались на голову могущественного короля Франции. Наряду с изображением Людовика в виде Солнца, Меркурия, Геркулеса или Атланта154, также очень часто он представал в образе римского бога войны – Марса. Подобные изображения, где король в виде бога войны увенчивается лаврами победителя, присутствуют как на монетах155, так и в произведениях искусства и, что более важно, в печати. Кроме этого, военная атрибутика греко-римского периода активно применялась художниками почти повсеместно.
Версаль был важнейшим из символов правления Людовика XIV и, более того, материальным отражением нового «французского мифа». Он был своеобразным храмом, в центре которого находился сам король всё в том же образе Марса. Мы полагаем, что применение подобных сравнений было отнюдь не случайным: они показывают, кроме всего прочего, и политические намерения Короля-Солнце, что активно подчеркивает в своей работе французский историк Пьер Губер156.
Нельзя утверждать, что король в полной мере воспользовался римской идеей «великой миссии», но стоит заметить, что Людовик XIV довольно настойчиво добивался статуса сверхдержавы для своей страны, показателем чего было создание мощной армии и лимеса маршала Вобана157, который в своих изысканиях на военном поприще также ориентировался на античных, в частности на римских авторов. При всем этом можно согласиться с мнением Дж. Шеннана, утверждающим, что кризис раннего Нового времени способствовал переходу от патримониальных режимов государств к современной бюрократической системе158.
В связи с этим формирующаяся абсолютная монархия на данной стадии своего развития всё более идентифицировалась со двором, однако с учетом развития политического прагматизма159. Логичным результатом становится концентрация всей полноты власти в руках монарха, что было следствием кризиса, завершившего формирование доктрины монархического суверенитета160. Уже Ж. Боден рассматривал в Эдикте в Болье 1576 г. решающий шаг в трансформации монархии во Франции, видя, с одной стороны, укрепление власти правителя, с другой же, – торжество закона, формирование принципа государственного суверенитета как одного из основных компонентов абсолютизма. В данном случае на примере судебной системы ярко проявляется влияние римского права и основных принципов государственного строительства161, причем, как указывает Ричард Бони, «полномочия, получившие интенданты благодаря декретам и дополнительным регламентам, полностью преобразовали природу королевского административного аппарата…»162.
Монарх, получая власть законодателя163, ставя ее выше права первого судьи и таким образом уничтожая устаревшую феодальную структуру, становился не только обладателем верховной власти, но и символом государственности.
Весь комплекс процессов, протекавших во Франции в данный период, можно трактовать следующим образом: «Появление четкой иерархии учреждений и целой цепи инстанций, … специализация, учреждение и наделение чиновников значительной властью, оплата жалований и пенсий, каталогизация делопроизводства»164.
Потребность идеологического оформления политических акций в условиях формирования Вестфальской системы ставила французских монархов перед проблемой политической идентичности. Ориентируясь на богатую античную практику, Людовик XIV использует основные элементы римского государственного механизма эпохи принципата, при этом выделяя несколько базовых факторов для создания своей идеологической доктрины, основанной на новой политической мифологии:
1. Основным функциональным звеном данной системы было создание идеологии, базировавшейся на концепции «римского мифа». С учетом схожих условий развития и функционирования французскую систему можно трактовать как своеобразное развитие римской военизированной идеологии, и «миф абсолютизма» рассматривать, как и «римский миф», с позиции мощнейшей идеологической системы. На основании формирующейся идеологии абсолютизма функционировала вся французская государственная система, следствием чего была милитаризация государственного механизма. В свою очередь, основным проводником этой концепции стало придворное общество, ставшее надгосударственной структурой и таким образом контролировавшее остальные элементы государственного механизма.
2. Ориентируясь опять же на античную практику, довольно важным элементом «французского мифа» была армия, являвшаяся основным проводником военной идеологии и одним из средств формирования в будущем «национального государства». Для монарха профессиональная армия была инструментом политики, которая, кроме всего прочего, обеспечивала стабильное функционирование всей государственной системы.
3. Последним элементом было создание бюрократического аппарата, который был призван являться частью сбалансированного государственного механизма Короля-Солнце. В целях укрепления своей идеологической концепции Людовик XIV активно применял каждый из этих элементов государственного механизма, что делало его весьма устойчивым и функциональным. Таким образом, можно утверждать, что в высших эшелонах власти Франции второй половины XVII столетия ориентировались на римскую практику политико-экономического взаимосдерживания.
Несомненно, весьма важным источником в понимании абсолютизма как философско-политической концепции являются «Instructions pour le Dauphin», датированные 1666-1667 гг165. Это одно из первых и наиболее важных для изучения мировоззрения короля сочинений – комплекс произведений, известный как «Наставления дофину», или «Мемуары» Людовика XIV, и состоящий из частей, посвященных событиям 1661, 1662, 1666, 1667 и 1668 годов. Довольно часто их называют «Мемуарами Людовика XIV», хотя более логичным будет представление этого документа как политического завещания. Оно рассматривает некий идеализированный образ монарха: с одной стороны, благочестивого христианского короля, с другой же, – грозного и победоносного императора Рима, символа великой Империи, воплощение идеалов государства. Очевидно, что «Instructions pour le Dauphin» и другие произведения Людовика XIV, тщательно переработанные многочисленными секретарями, как и «Res Gestae» (Деяния), служат манифестом нового «римского мифа» – абсолютизма. Следует подчеркнуть, что в обоих вышеуказанных документах активно прослеживается концепция управления государством, основанная на соединении таких элементов, как военный и административный механизмы непосредственно правителем при помощи двора. Значительную роль в функционировании подобного механизма играла пропаганда, что дает возможность утверждать, что и римские, и французские монархи пользовались универсальной концепцией управления государством, технологически и политически являвшейся так называемой сверхдержавой.
Именно в своих произведениях Людовик, исходя из конкретных политических реалий, нарисовал идеал абсолютной монархии, предложив пути его осуществления. Однако, помимо практических рекомендаций, он высказывал свое мнение и о происхождении монархии, месте и роли правителя в государстве и обществе, цели его деятельности. Но этим творчество короля не исчерпывается.
Ему принадлежит авторство так называемых «Военных мемуаров» – сборника разрозненных реляций, писем и приказаний короля за 1667-1694 гг., чередующихся с пояснениями позднейшего редактора, одного из первых издателей произведений Людовика XIV – генерала Гримоара, а также трех небольших по объему, но крайне важных сочинений: «Размышлений о ремесле короля», «Наставлений герцогу Анжуйскому» и «Проекта торжественной речи». Кроме них сохранился ряд произведений, таких, как «Листки» и «Дневник короля», послуживших основой для «Мемуаров» и ставших их черновыми набросками166. Они зачастую сильно отличаются по содержанию от окончательного варианта, но передают идеи Людовика XIV.
Король Франции попытался создать не просто теоретический труд, посвященный доктрине абсолютной монархии, а своего рода учебник по искусству управления государством, королевскому ремеслу. К сожалению, до конца реализовать этот замысел ему не удалось: записи короля не были сведены в единое произведение. Но даже фрагментарно они позволяют выяснить, что означало для короля понятие «монаршая власть».
Рассуждения короля о происхождении государства были созвучны мыслям английского философа Т. Гоббса (1588-1679 гг.), изложенным в трудах «О гражданине» и «Левиафан»167. В идеях Гоббса доминирует тезис о том, что люди в естественном состоянии были одержимы только собственными страстями, из-за чего они постоянно вели всеобщую войну, так как каждый считал себя равным другому и боролся за свои права, за собственное благо. В результате осуществить эти права стало совершенно невозможно, так как борьба за них оказывалась бесконечной. Выходом из этой ситуации стал договор между людьми о создании общества, основанного на единстве интересов, т.е. благе для всех, а гарантом этого блага явилась общественная власть – государство. Другими словами, люди отказывались от ряда своих прав во имя блага всех, в частности, от права обеспечивать собственную безопасность и вершить суд – мстить за себя. Эта же мысль прослеживается и у Людовика XIV, указывавшего на отказ частных лиц от своего права мстить, т.е. от права «вершить суд и защищать себя» вследствие появления гражданского закона – создания государства. Людовик XIV отмечал, что «только королям принадлежит право быть судьей в своем деле; с того момента, как частные лица отказались от него ради блага всех и своего собственного, подчинившись гражданскому закону»168. Но, если они «безнаказанно … вновь присвоят себе это естественное право (cedroitnaturel), то тогда их верность не выдержит испытания; для этого потребовалась бы почти героическая доблесть, на которую большинство людей не способны»169. Именно государству люди передали свои естественные права, наделив каждого из участников договора, каждого гражданина «необходимыми обязательствами», без которых невозможно сохранение «гражданского закона». Об этом писал и Гоббс. Не были исключением из этого правила и короли, которые, по мнению Людовика, «являются людьми и имеют дело только с ними, занимаясь непростым королевским ремеслом с соответствующими этому званию обязанностями и правами»170.
Следует заметить, что в политической концепции Людовика XIV, наряду с принципом божественности власти, присутствует принцип saluspublica («общественное благо»)171, который и представляет наибольший интерес в сравнении с политической концепцией принципата, и, соответственно, священная миссия является в данном случае далеко не средневековой формулой. Подобная идея ставила и принцепса, и французского короля вне механизма государства, делая тем самым данную структуру еще более упорядоченной и стройной. Более того, утверждение соответствующей концепции обуславливало централизацию общественного мнения в понимании природы власти, а также права тех, кто обладал ею.
Как уже подчеркивалось ранее, Людовик XIV в полной мере воспользовался перенесенной из римской практики политического мифотворчества идеей формирования и функционирования механизма управления сверхдержавой, что позволило ему без особых усилий приспособить эти принципы для конкретных исторических условий, ограничивая своих подданных лишь рамками справедливости и величия государства.
Он утверждал, что французская монархия – одна из древнейших, а кроме того, короли во Франции ведут свое происхождение от римских императоров172. Как и в Риме, основным проводником милитаризированной идеологии была армия, которая в руках Короля-Солнце становится мощным инструментом политики. Именно гражданские недовольства и дальнейшее ведение агрессивной политики были одним из мощнейших факторов в развитии системы абсолютизма и комплекса преобразований во Франции в период с 1598 по 1778 гг173. Трансформация общественного сознания, социальная и политическая революции этого времени родили не только иную структуру общества, но и заложили основные принципы взаимодействия между обществом и государством, что, по нашему мнению, повлияло, в первую очередь, на военную сферу. В указанный период произошла полная перестройка французского военного механизма в соответствии с идеологической концепцией «нового римского мифа». Одним из рычагов подобного социального движения были Тридцатилетняя война и внешняя политика Людовика XIV; именно они в дальнейшем обеспечили динамику социальных изменений174.
Таким образом, подводя итог рассмотрению феномена политического мифотворчества эпохи раннего нового времени на примере Франции, что выразилось в оформлении военно-политической концепции абсолютизма и ее античных корней, следует выделить следующее:
1. Интерес к античной, в частности, к римской традиции в развитии политической мифологии в период раннего Нового времени был явлением закономерным. С одной стороны, с возрождением римского права в Европе появлялись политические концепции таких ученых, как Юст Липсий и Гуго Гроций, так что влияние на европейских монархов было очевидным. При этом нельзя не упомянуть, что общеевропейский кризис последнего этапа Тридцатилетней войны даже многие современники сравнивали с кризисом римской Республики, подчеркивая единственную возможность возрождения европейских государств посредством реформ, напоминающие те, что проводил Октавиан Август.
2. Людовик XIV в полной мере воспользовался перенесенной из римской практики идеей формирования и функционирования механизма управления сверхдержавой, что позволило ему без особых усилий приспособить эти принципы для конкретных исторических условий, ограничивая своих подданных лишь рамками справедливости и величия государства. В условиях формирования этнического самосознания такая политика, по нашему мнению, была наилучшей.
3. Складывается некий идеализированный образ монарха: с одной стороны, благочестивого христианского короля, с другой же, – грозного и победоносного императора Рима, символа великой Империи, воплощение идеалов государства. Очевидно, что «Instructions pour le Dauphin» и другие произведения Людовика XIV, тщательно переработанные многочисленными секретарями, как и «Res Gestae», служат манифестом нового «римского мифа» – абсолютизма.
4. Существенным фактором было также и формирование мощной идеологической концепции, основанной на «римском мифе», которое являлось важным этапом в борьбе с одним из опаснейших противников Франции – Священной Римской империей.
5. Подводя итог, стоит подчеркнуть, что всё же главенствующим фактором было именно военное и идеологическое единообразие во Франции. Оно представляло собой один из шагов, направленных на централизацию бюрократического и военного механизмов, призванных создать устойчивую политическую систему, значительно напоминающую римскую, активная внешняя политика которой была направлена на реализацию во Франции идеи «золотого века».
Логическим следствием процесса зарождения абсолютистской традиции как формы политической мифологии становится переосмысление концепта «античного и христианского мифа» в рамках естественной религии. Одним из первых уделил внимание этой абстрактной категории Ренатус Картезиус, более известный как Рене Декарт, пытаясь проанализировать с позиции пропагандируемого им рационализма феномен религиозного сознания, близкий в чистом виде к мифу. Мыслитель в первую очередь ставил вопрос о природе божественного и осознания человеком этой всеобъемлющей категории, демонстрируя ее очевидную вариативность: допускалось рассмотрение Бога в качестве врожденной идеи, порожденной самим высшим существом, что кроме всего прочего созвучно с рассуждениями основоположника деизма Герберта Чербери. Подобного рода подход трактовал миф в качестве внеисторического явления, исключая его динамизм развития, с чем в полной мере Декарт не был согласен, допуская, что религия, основанная на мифе, как форма самоидентификация испытывает значительное влияние со стороны познающего субъекта, ведь естественная религия, которая «должна быть несравненно лучше устроена, чем какая-либо другая»175, демонстрировала трансформацию массового сознания, переходящую от познания природы через осознание божественного, от внешних к внутренним его проявлениям, от персонификации божества к его трактовке в качестве безличной разумной первопричины мира, его перводвигателя и первого принципа организации мироздания как целостной структуры.