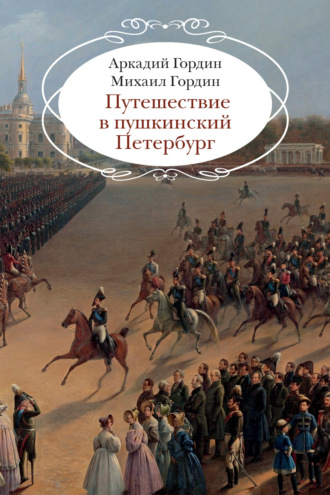
Полная версия
Путешествие в пушкинский Петербург
При генерал-губернаторе состоял целый штат чиновников, военных и гражданских. Ему подчинялись гражданский губернатор, военный комендант и начальник городской полиции – обер-полицмейстер. Городская чертежная с архитекторами, Комитет городских строений, Комитет для строений и гидравлических работ, Контора правления санкт-петербургских запасных магазинов, в которых сохранялись запасы провианта, Контора адресов – для выдачи видов на жительство – все они относились к канцелярии генерал-губернатора.
Повседневный надзор за городом и присмотр за населением осуществляла полиция. Городское полицейское управление, в ведении которого находились все полицейские чины, именовалось Управой благочиния.
Для удобства надзора Петербург еще со времен Екатерины II был разделен на полицейские отделения, части и кварталы. В начале XIX века отделений было три, а частей – одиннадцать: Первая Адмиралтейская, Вторая Адмиралтейская, Третья Адмиралтейская, Четвертая Адмиралтейская, Московская, Литейная, Рождественская, Каретная, Васильевская, Петербургская, Выборгская. В 1811 году из состава Московской части выделили Нарвскую. В 1828 году была создана еще одна часть – Охтинская: в черту города вошла расположенная на правом берегу Невы Охтинская слобода. Городских частей уже стало тринадцать, а кварталов пятьдесят шесть. В 1833 году для усиления полицейского надзора утверждено было положение «О присоединении к Санкт-Петербургской столице дач, мест и островов, вокруг оной находящихся».
Четыре Адмиралтейские части расположены были в виде полукружия вблизи Адмиралтейства, от которого и получили свое название.
Первая Адмиралтейская часть простиралась между Невой и Мойкой. В нее входили центральные площади города – Дворцовая, Адмиралтейская, Исаакиевская, Петровская (Сенатская), набережные – Дворцовая и Английская, а из больших улиц – Большая и Малая Миллионные, Большая и Малая Морские, Почтамтская, Галерная, часть Невского проспекта до Мойки, часть набережной Мойки и Гороховой улицы.
Вторая Адмиралтейская часть занимала пространство между Мойкой, Екатерининским и Крюковым каналами. Сюда относилась набережная Мойки, а из значительных улиц – Большая и Малая Конюшенные, Большая, Средняя и Малая Мещанские, часть Невского, Екатерингофского и Вознесенского проспектов, переулки – Столярный, Новый, Демидов.
Ко Второй Адмиралтейской части примыкала Третья, расположенная между Екатерининским каналом и Фонтанкой. В нее входили улицы – Большая и Малая Садовые, Караванная, Итальянская, часть Гороховой, три Подьяческие, Чернышев переулок и частично проспекты Невский, Обуховский, Екатерингофский, Вознесенский, а также Сенная площадь и примыкающие к ней переулки.
Четвертая Адмиралтейская часть простиралась к западу от Крюкова канала, между Мойкой и Фонтанкой, в сторону взморья. Наиболее примечательными здесь были Офицерская, Торговая, Канонерская улицы, а также Английский и частично Екатерингофский проспекты, удаленные от центра города участки набережной Фонтанки и Крюкова канала.
Южнее, между Финским заливом и Обуховским проспектом и между Фонтанкой и Обводным каналом, располагалась пятая – Нарвская – часть. Здесь пролегали Измайловский, частично Обуховский и Петергофский проспекты, Фуражная и Болотная улицы.
Границами шестой – Московской – части служили с одной стороны Невский проспект за Фонтанкой до Лиговского канала, с другой – Обуховский проспект, переходящий в Большую Московскую дорогу. Главными улицами этой части считались Загородный проспект, Владимирская, Большая Офицерская, Стремянная, Поварская и Хлебная улицы.
Седьмая – Литейная – часть шла от Невского проспекта к Неве и от Фонтанки к Лиговскому каналу. Особо примечательной в этой части города была Литейная улица, вблизи которой располагались Моховая, Симеоновская, Бассейная, Кирочная, Пантелеймоновская, Фурштадтская, Сергиевская, Захарьевская, Знаменская улицы и Воскресенский проспект.
Восьмая – Рождественская – часть находилась за Литейной, в пространстве, ограниченном излучиной Невы. В этой части было восемь Рождественских улиц, различавшихся по номерам, две Болотные, множество переулков и две набережные – Невская и Воскресенская.
В девятую часть – Каретную – входил отрезок Невского проспекта, который шел от Знаменской площади до Александро-Невской лавры. Сюда же относились набережная Лиговского канала, Гончарная и Боровая улицы. Каретная часть считалась окраинной.
Эти девять частей расположены были на так называемом Адмиралтейском острове.
Десятая часть – Васильевская – занимала весь Васильевский остров, омываемый Большой и Малой Невой и водами Финского залива. Улицы здесь назывались «линиями». Причем на каждой улице линий было две – по числу сторон. Всего их насчитывалось 24. Эти линии пересекались тремя проспектами – Большим, Средним и Малым, – протянувшимися через весь остров. На территории Васильевской части находились Торговый порт и Галерная гавань с Галерной слободой.
Одиннадцатая часть называлась Петербургской по своему местоположению на Петербургской стороне. Главной улицей Петербургской стороны считался очень длинный Каменноостровский проспект.
К Петербургской части принадлежали острова – Петровский, Каменный, Елагин, Аптекарский. Последний получил свое название от Аптекарского огорода лекарственных трав, заведенного еще при Петре I и позднее преобразованного в Ботанический сад.
Двенадцатая и тринадцатая части города – Выборгская и Охтинская – располагались на правом берегу Невы. Выборгская часть имела «мало порядочных улиц». Почти все обитаемые участки расположены были здесь по обе стороны Сампсониевского проспекта, переходившего в Выборгскую дорогу. На Охте «порядочных» улиц не было вовсе.
Нумерация домов в Петербурге первоначально была сплошная по всему городу. Позднее стали нумеровать дома по частям. Но это создавало большие неудобства, так как на отрезках одной и той же улицы, пересекавшей разные части города, порой повторялись одни и те же номера. С 1834 года дома стали нумеровать по улицам, четные номера домов шли по правой стороне улицы, а нечетные – по левой.
Три полицейских отделения и тринадцать полицейских частей осуществляли «неусыпный надзор» за общественным порядком. Управляли ими три полицмейстера и тринадцать частных приставов.
В каждой части имелся съезжий дом. В нем жил частный пристав, помещались канцелярия, арестантские камеры и лазарет. Здесь же находились пожарная команда «с инструментом» и команда фонарщиков. Особое помещение отводилось для произведения экзекуций: там секли провинившийся простой народ. Из этого помещения, как вспоминают современники, нередко доносились свист розог и крики истязуемых. Съезжий дом Первой Адмиралтейской части находился в самом центре города, на Большой Морской улице, и его пожарная каланча высоко поднималась над всеми окрестными домами.
Полицейская часть объединяла несколько кварталов, в каждом из которых распоряжался квартальный надзиратель. Он выполнял свои обязанности вместе с одним или двумя помощниками, а также городовым унтер-офицером и вице-унтер-офицером, или, как их еще называли, хожалыми.
Чудовищный произвол, самоуправство и лихоимство отличали деятельность всех полицейских чинов.
Решая для себя вопрос, где больше всего творится безобразий и беззаконий, лицейский друг Пушкина декабрист Иван Пущин в начале 1820-х годов надумал идти служить в квартальные надзиратели. Для дворянина, гвардейского офицера, внука адмирала, это было весьма необычное намерение. Хотя по зрелом размышлении Пущин пришел к выводу, что сможет сделать больше добра в должности надворного судьи, само его намерение характерно. О полицейских никто не говорил доброго слова. Так было в начале 1820-х годов, так было и десять лет спустя.
В своем журнале «Современник» Пушкин в 1836 году напечатал повесть Гоголя «Нос». Здесь очень точно были изображены нравы столичной полиции. Вот, например, как беззастенчиво выпрашивает взятку явившийся к герою повести квартальный надзиратель: «Очень большая поднялась дороговизна на все припасы… У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких». Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, «и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего со своею телегою как раз на бульвар».
Во всех частях города, особенно «в приличных местах», стояли черно-белые «в елочку» полицейские будки. В них днем и ночью дежурили будочники, так называемые «градские сторожа». Они должны были днем следить, чтобы не возникало шума, ссор и беспорядка, а ночью, бодрствуя, окликать прохожих и смотреть, чтобы на улице не шатались люди «подозрительные». Однако стражи порядка далеко не всегда выполняли свои обязанности как следовало. А пожаловаться на них было некому. В полиции существовала круговая порука.
Дело зашло столь далеко, что даже такой махровый реакционер, как издатель «Северной пчелы» Булгарин, счел необходимым предупредить об этом правительство в специальной записке, предназначавшейся для управляющего Третьим отделением Дубельта: «Если б я открыл, что будочник был пьян и оскорбил проходящую женщину, я бы приобрел врагов: 1) министра внутренних дел, 2) военного генерал-губернатора, 3) обер-полицмейстера, 4) полицмейстера, 5) частного пристава, 6) квартального надзирателя, 7) городового унтер-офицера и par dessus le marche[8] – всех их приятелей, усердных подчиненных и так далее. Спрашивается: кому же придет охота открывать истину, когда каждое начальство почитает врагом своим каждого открывающего злоупотребление или злоупотребителей в части, вверенной их управлению?!!»
Николай I считал, что всякое нарекание на полицию есть вольномыслие. Когда в 1832 году была издана шуточная поэма Елистрата Фитюлькина (И. А. Проташинского) «Двенадцать спящих будочников», царь весьма разгневался тем, что она заключала в себе описание действий полиции «в самых дерзких и неприличных выражениях» и «приноровлена к грубым понятиям низшего класса людей, из чего видимо обнаруживается цель распространить чтение ее в простом народе и внушить оному неуважение к полиции». Было приказано цензора, пропустившего книжку (писателя С. Т. Аксакова), от должности уволить.
Полиция оберегала устои крепостнической монархии. Потому правительство не жалело денег на увеличение числа полицейских и на их содержание. Если в конце XVIII века в штате Управы благочиния было всего 647 человек, то в 1838 году в полиции служило одних только «нижних чинов» – рядовых и унтеров-офицеров – 1753 человека. И еще при обер-полицмейстере имелась специальная воинская команда почти из 700 человек да будочников было около 1000.
В обязанности Управы благочиния входило «иметь попечение о сохранении в городе благочиния, добронравия и порядка», а также смотреть за мостами, перевозами, пожарными командами, чистотою улиц, медицинской частью, мерами и весами.
«Благочиние» населения было главной заботой полиции. Домовладельцам предписывалось незамедлительно сообщать обо всех вновь прибывших и отъезжающих. А если случалась просрочка, то за сутки взимался штраф в размере 10 рублей. Тот же, кто давал убежище беспаспортным, бродягам и беглым, платил еще дороже – 25 рублей в сутки – и привлекался к суду, ибо по закону подобных лиц надлежало ловить и предъявлять начальству. Подозрительные люди тотчас же арестовывались и отправлялись на съезжую, а оттуда в Смирительный дом – тюрьму. Тюрьмами также ведала полиция.
Полиция следила за исполнением жителями многочисленных повинностей. Все владельцы домов обязаны были блюсти чистоту улиц – «каждый против своего двора», вывозить сор за город в указанные места, зимою тротуары или часть улицы перед домами посыпать песком, разравнивать снежные ухабы; весною, когда стает снег, счищать и «свозить навоз, грязь»; летом – подметать. Для этого каждый владелец большого дома содержал одного или нескольких дворников, которых полиция обязывала также знать всех живущих в доме, извещать о приезжающих и «об особенных случаях». Ночью в центральных кварталах дворники по очереди дежурили у домов.
Для петербургских жителей существовало множество ограничений и запретов. Следить за их соблюдением также предписывалось полиции. Ей следовало пресекать распространение «предосудительных» политических слухов, запрещать недозволенные «общества, товарищества, братства», а также искоренять азартные игры под названием «лото, фортунка, орлянка», не разрешать «как при прогулках пешком, так и проезде в экипажах курить в городе цигарки» и т. д., и т. п.
Грибоедов в 1826 году писал о «душном однообразии» и «отменно мелкой, ничтожной деятельности», характеризующих атмосферу столицы. Гоголю, приехавшему в Петербург в 1829 году, сразу бросилась в глаза всеобщая подавленность, царившая в городе: «Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе». В создании этой всеобщей «тишины», этого «душного однообразия» или, по Пушкину, «духа неволи» полиция играла роль немаловажную. Относительно же других ее функций Управа благочиния отнюдь не оправдывала своего названия. Жалобы и прошения жителей, поступавшие в ее канцелярию, передавались из одного отделения в другое и часто бесследно исчезали. Беспорядок здесь царил такой, что месяцами нельзя было добиться не только решения дела, но даже установить его местонахождение. А вымогательством чиновники занимались так нагло, что видавшие виды петербургские жители только диву давались.
Еще с екатерининских времен в Петербурге помимо государственных органов управления городом существовали выборные – Общая и Шестигласная думы. Их избирали свободные сословия: «городовые обыватели» – по одному депутату («гласному») от каждой части города; три купеческие гильдии – по одному гласному от каждой гильдии; ремесленники – по одному гласному от каждого цеха; иностранные купцы – по одному гласному от каждой национальности. Ученые и художники (архитекторы, живописцы, скульпторы, музыканты, имеющие аттестаты) тоже имели право посылать своих гласных в думу. Избирательным правом пользовались лица не моложе 21 года и с годовым доходом не менее 100 рублей.
Общая дума из своего состава избирала Шестигласную. Председателем был городской голова. Шестигласная дума действовала постоянно и должна была собираться не реже раза в неделю, между тем как Общая дума собиралась лишь несколько раз в год.
Из обширного и сложного городского хозяйства дума ведала немногим: перевозами, рынками, постоялыми дворами, общественными скверами, некоторыми зданиями. Она выдавала торговые патенты, переводила купцов из гильдии в гильдию, контролировала цены на съестные припасы, отводила места под застройку на городских землях.
При помощи особой торговой полиции дума наблюдала за торговлей. Полиция должна была следить за мерами и весом, препятствовать обману покупателей. Например, смотреть за булочниками, «чтобы лучший белый хлеб за восемь копеек весил один фунт и шесть лотов[9], черный за одиннадцать копеек – один фунт и двенадцать лотов, ржаной за пять копеек – один фунт и восемь лотов». Но и здесь полиция оставалась верна себе. Как утверждали, «частные и квартальные получают свою плату за то, чтоб не мешали торговать, и они никого не беспокоят».
В жизни Петербурга дума играла незначительную роль. Она не имела реальной власти и во всем зависела от высшего городского и губернского начальства. А высшее начальство с нею не больно-то церемонилось. Поэтому звание гласного думы никого не привлекало. Наоборот, гласные манкировали своими обязанностями, не желали посещать заседаний, и думский секретарь нередко посылал им дела на подпись на квартиру. Думская канцелярия во многом напоминала пресловутую канцелярию Управы благочиния. По словам одного ревизора, Петербургская дума являла собой «образец медлительности, упущений, запутанности, беспорядка и злоупотреблений».
Впрочем, столичная администрация была лишь составной частью более обширного бюрократического механизма.

Глава пятая
«Везде неправедная власть»
Петербург был центром управления Российской империей, управления многосложного и запутанного.
Во главе государства стоял самодержавный властитель – царь.
Главной царской резиденцией в Петербурге был Зимний дворец, возведенный Ф.-Б. Растрелли в середине XVIII века. Когда царь находился в столице, над Зимним дворцом развевалось желтое знамя с черным двуглавым орлом – императорский штандарт. В Зимнем дворце решались все основные вопросы внутренней и внешней политики, что делало его важнейшим государственным учреждением.
В грандиозных парадных залах второго этажа – Белом, Георгиевском, Фельдмаршальском, Тронном – принимали послов и устраивали торжественные дворцовые церемонии.
Вот как описан Тронный зал Зимнего дворца в книге В. Бурьянова «Прогулка по Санкт-Петербургу», изданной в 1838 году: «В Тронной находится великолепный трон в старинном вкусе с четырьмя ступенями, покрытыми красным бархатом. Самый трон состоит из больших кресел, покрытых алым бархатом, с балдахином, украшенным императорскою короною. При публичных аудиенциях стоят государственные регалии подле трона на бархатных подушках, лежащих на маленьких столиках… Большая корона, вся литая из золота, подложена красным бархатом и осыпана крупными драгоценными каменьями. Верх украшен большим яхонтом необыкновенной величины. Малая корона также осыпана брильянтами. Верхняя оконечность скипетра украшена огромным алмазом, купленным императрицей Екатериной II… за полмиллиона рублей… Он весит 194 карата и огранен в Индии. Государственная держава с золотым крестом покрыта более нежели до половины на поверхности разными драгоценными каменьями».
Из владельцев Зимнего дворца Пушкин знал двоих.
Об Александре I в десятой главе «Евгения Онегина» сказано:
Властитель слабый и лукавый,Плешивый щеголь, враг труда,Нечаянно пригретый славой,Над нами царствовал тогда.Хитрый, двуличный, переменчивый Александр I не отличался ни выдающимся государственным умом, ни военными талантами.
После победы над Наполеоном Александр пожинал лавры, добытые русскими полководцами и солдатами. Во второй половине своего царствования он мало бывал в Петербурге, передоверив ведение дел своему любимцу – генералу Аракчееву, которого порядочные люди иначе не называли, как «подлый» и «гнусный».
Что же касается Николая I, то, вступив на престол в 1825 году, двадцати восьми лет от роду, он вплотную занялся государственными делами.
Поднимаясь чуть свет, он до полудня читал и подписывал бумаги, принимал министров. «В первом часу дня, – сообщает мемуарист, – невзирая ни на какую погоду, государь отправлялся, если не было назначено военного учения, смотра или парада, в визитацию или, вернее, инспектирование учебных заведений, казарм, присутственных мест и других казенных учреждений. Чаще всего он посещал кадетские корпуса и женские институты… В таких заведениях он входил обыкновенно во все подробности управления и почти никогда не покидал их без замечания, что одно следует изменить, а другое вовсе уничтожить». Однако неуемная деятельность царя, мелочная и суетливая, не приносила полезных плодов. Большинство должностных преступлений и злоупотреблений обычно сходило с рук. Лишь изредка случайно они обнаруживались, и тогда, по выражению М. А. Корфа, ставшего в 1830-е годы одним из видных деятелей николаевской администрации, царь видел себя перед «зияющей бездною всевозможных мерзостей, бездною, открывшеюся не сегодня, не вчера, а образовавшеюся постепенно, через многие годы, неведомо ему перед самым его дворцом».
Управление страной царь осуществлял с помощью сосредоточенного в Петербурге громоздкого государственного аппарата.
Высшим правительственным учреждением империи являлся Государственный совет, который заседал тут же, в Зимнем дворце. Государственный совет был образован в 1810 году Александром I как совещательный орган при императоре. В его обязанности входило разрабатывать законы, обсуждать их и вносить на утверждение царя. Первоначально предполагалось, что царь будет соглашаться лишь с мнением большинства и ставить резолюцию: «Вняв мнению Государственного совета, утверждаем». Но так как часто утверждалось мнение меньшинства, Николай I в 1826 году сменил эту формулу на другую: «Быть по сему». Так писал он на бумагах и ставил свое имя.
В сатирическом ноэле Пушкина «Сказки» Александр I обещает подданным:
Закон постановлю на место вам Горголи,И людям я права людей,По царской милости моей,Отдам из доброй воли.Горголи был петербургским обер-полицмейстером. Место закона мог он занимать потому, что закон не почитался ни во что. Его не соблюдали. Цари управляли страной посредством высочайших повелений, именных указов, рескриптов и распоряжений. Каждый царский указ и становился законом впредь до нового, отменявшего прежний или противоречившего ему. Один за другим летели из Петербурга эти указы по всей империи – от Польши в Европе до Аляски в Америке. Право царя вмешиваться в деятельность любого учреждения, изменять и отменять любые постановления и приговоры низводило даже высших сановников до роли безгласных исполнителей.
При Александре I Государственный совет делился на четыре департамента – законов, гражданских и духовных дел, военных дел, государственной экономии. При Николае I был образован еще департамент по делам Царства Польского.
В 1810 году председателями департаментов были назначены граф П. В. Завадовский, князь П. В. Лопухин, граф А. А. Аракчеев, граф Н. С. Мордвинов. «Известно, – писал Корф, – что продолжительным прениям о том, как их рассадить, и даже нескольким последовавшим пересадкам мы обязаны остроумною баснею Крылова „Квартет“».
А вы, друзья, как ни садитесь,Всё в музыканты не годитесь —таков был взгляд баснописца на пригодность этих лиц к государственной деятельности.
Через двадцать с лишним лет Пушкин столь же нелестно отозвался о князе В. П. Кочубее, бывшем при Николае I председателем Государственного совета. В июне 1834 года поэт записал в своем дневнике: «Тому недели две получено здесь известие о смерти кн. Кочубея. Оно произвело сильное действие; государь был неутешен. Новые министры повесили голову. Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!.. О Кочубее сказано:
Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей.Что в жизни доброго он сделал для людей,Не знаю, черт меня убей.Согласен; но эпиграмму припишут мне, и правительство опять на меня надуется».
При Государственном совете состояли Комиссия составления законов, Комиссия прошений, подаваемых на высочайшее имя, Государственная канцелярия и Канцелярия Комитета министров. Комитет этот должен был во время отсутствия императора решать все дела, «разрешение коих превышает предел власти, вверенной каждому министру». Комитет министров, как и Государственный совет, заседал в Зимнем дворце.
Высшей судебной инстанцией империи был Правительствующий сенат. Он помещался на Петровской (Сенатской) площади, в бывшем дворце канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, а с 1834 года – в новом великолепном здании, возведенном по проекту К. И. Росси.
Сенат делился на восемь департаментов. Пять из них находились в Петербурге, три – в Москве. Сенату подчинялись все присутственные места, он наблюдал за отправлением правосудия, разбирал апелляции и, кроме того, ревизовал губернии.
Тяжбы между жителями – в зависимости от их сословной принадлежности – разбирали уездный, надворный и земский суды в первой инстанции, губернское правление, уголовная и гражданская палаты во второй.
О том, как велось делопроизводство в самом Сенате, рассказывает в своих «Записках современника» С. П. Жихарев: «Отец писал, чтоб я похлопотал по березняговскому делу и попросил кого-нибудь в Межевом департаменте Сената о скорейшем окончании этого несчастного процесса, продолжающегося более 17 лет. Рано утром отправился я в Сенат и провозился там до двух часов, отыскивая секретаря Булкина, к которому прежде для справок и наставлений отец адресоваться мне приказал. Булкин с великим огорчением объявил, что он не заведывает более нашим делом и что оно по приказанию обер-прокурора… передано другому секретарю, Степану Степановичу Ватиевскому. „А где ж Ватиевский?“ – спросил я у Булкина. „А вон сидит там“, – отвечает Булкин. Я обратился к Ватиевскому. Презрительно посмотрев на меня, он спросил довольно грубо: „Что вам угодно?“ Я объяснил, в чем дело. „Сегодня день не присутственный, – сказал он, – извольте прийти в другой раз“». На просьбу Жихарева ответить только, в каком положении дело, секретарь объявил: «Не от нас зависит-с, а от обер-секретаря». Добравшись наконец до обер-секретаря Крейтера, Жихарев узнал, что дело остановилось за неполучением каких-то новых справок. При этом Крейтер ободрил его и посоветовал «сыскать какую-нибудь протекцию». «Я отвечал, – рассказывает Жихарев, – что… знаком с сенатором И. С. Захаровым, у которого буду сегодня на литературном вечере. „Ну, так и слава богу! Чего ж, батюшка, лучше? Христос с вами! Успокойте родителей ваших!“».



