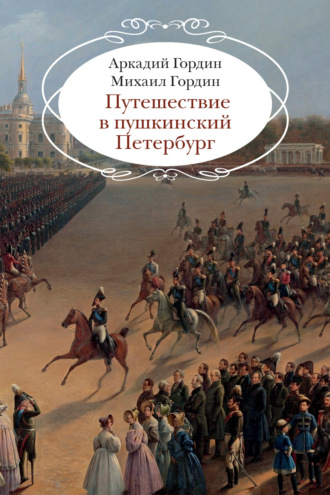
Полная версия
Путешествие в пушкинский Петербург
Без «протекции» даже очевидное дело могло тянуться годами.
Окончательной инстанцией судебной власти, как и законодательной, был царь.
В ноябре 1833 года Пушкин отметил в дневнике: «Выдача гвардейского офицера фон Бринкена курляндскому дворянству. Бринкен пойман в воровстве; государь не приказал его судить по законам, а отдал на суд курляндскому дворянству. Это зачем?.. Прилично ли государю вмешиваться в обыкновенный ход судопроизводства? Или нет у нас законов на воровство?.. Вот вопросы, которые повторяются везде».
Для Николая I, как и для его старшего брата Александра I, законов не существовало.
Высшими правительственными учреждениями были и министерства. Их учредили в 1802 году вместо старых коллегий. При Александре I существовало семь министерств: военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, финансов, юстиции, духовных дел и народного просвещения. При Николае I к ним еще прибавились Министерство императорского двора и Министерство уделов.
Министерство императорского двора состояло в ве́дении императора и не отдавало отчета в действиях своих ни одному «правительственному месту». В него входили Кабинет его императорского величества, заведовавший доходами с многочисленных заводов и фабрик, являющихся личной собственностью царя; Придворная контора, ведавшая всеми расходами на содержание двора; Гофинтендантская контора, имевшая в своем ведении придворные здания и селения; Егермейстерская контора, ведавшая охотой и разными «царскими забавами»; Конюшенная контора, Экипажный комитет и другие. В ве́дении Министерства двора находились также императорские театры, Эрмитаж, Академия художеств, Певческая капелла, Пажеский корпус, Ботанический сад…
Министерство уделов тоже подчинялось лишь императору и управляло доходами и расходами по имениям, «отчисленным в удел лиц высочайшей фамилии».
Каждое министерство подразделялось на департаменты, департаменты в свою очередь – на отделения, отделения – на столы. При каждом министерстве существовал министерский совет, а также канцелярия. Кроме министерств и департаментов, делами государства управляли всевозможные комиссии, комитеты, канцелярии.
Министерства и департаменты заняли едва ли не лучшие здания столицы. В середине 1820-х и в 1830-е годы Министерство уделов размещалось в особняке на Дворцовой набережной, выходившем и на Большую Миллионную улицу; Министерство иностранных дел – в восточном крыле здания Главного штаба на Дворцовой площади (до того резиденцией его был просторный особняк на Английской набережной); Военное министерство – в здании Главного штаба, в бывшем доме князя А. Я. Лобанова-Ростовского на Адмиралтейской площади и еще в нескольких домах – казенных и частных; Морское министерство – в Главном Адмиралтействе и казенном здании на Английской набережной; Министерство внутренних дел – в особняке на набережной Мойки близ Синего моста, а позже – в новом здании у Чернышева моста, построенном Росси; Министерство духовных дел и народного просвещения – в домах по Большой Садовой и Чернышеву переулку, а затем также в новом здании возле Чернышева моста; Министерство юстиции – в генерал-прокурорском доме по Малой Садовой; Министерство финансов – в особняке на Дворцовой набережной и других казенных зданиях; Главное управление путей сообщения и публичных зданий – в казенных домах по набережной Фонтанки у Обухова моста; Главное управление почт – в домах Почтамта близ Исаакиевской площади.
До середины 1820-х годов в Петербурге с раннего утра, если не сказать – с ночи, наибольшее оживление наблюдалось не у министерств и департаментов, а возле скромного деревянного дома на углу Литейной и Кирочной улиц. Дом этот принадлежал второй артиллерийской бригаде, и занимал его шеф бригады генерал Аракчеев. Рассказывали, что как-то Александр I предложил Аракчееву:
– Возьми этот дом себе.
– Благодарю, государь, на что он мне? Пусть останется вашим. На мой век станет, – ответил генерал.
А дело было в том, что казенный дом освещала, отапливала и ремонтировала казна, а перейди он к Аракчееву, все расходы легли бы на него.
Царь видел в Аракчееве, которого назначил председателем Военного департамента Государственного совета, инспектором всей артиллерии и начальником военных поселений, своего ближайшего друга и лучшего исполнителя своих предначертаний.
Всей России притеснитель,Губернаторов мучительИ Совета он учитель,А царю он – друг и брат.Полон злобы, полон мести,Без ума, без чувств, без чести,Кто ж он? Преданный без лести,…грошевой солдат.Так писал об Аракчееве Пушкин.
Назначенный царем «для доклада и надзора по делам Комитета министров», Аракчеев считал своим долгом надзирать за всем. Вставал он по-военному рано. Просителей принимал с четырех часов утра. Уже перед рассветом возле дома на углу Литейной стояли кареты министров, сенаторов, членов Государственного совета. Без Аракчеева почти невозможно было добиться аудиенции у царя. Даже знаменитому писателю и историографу Н. М. Карамзину, когда он захотел говорить с Александром, пришлось прежде отправиться на поклон к Аракчееву. Приехавшая в Петербург просительница сообщала родственникам: «…а насчет дел, кажется, ни по каким ничего не будет. Государя нет и, думаю, прежде 6 января не будет. Аракчеев нездоров и все дела сдал». Когда царь уезжал, а Аракчеев болел, дела решать было некому.
Многие, желавшие получить теплое местечко, повышение в чине, орден, действовали через любовницу Аракчеева, жену синодального обер-секретаря Пукалову. Эта дама за соответствующую мзду «помогала» просителям.
От Аракчеева зависело очень многое. Вскоре после победы над Наполеоном Александр поставил своего любимца во главе комитета, призванного оказывать «воспомоществование неимущим и изувеченным» генералам и офицерам. Просьбы их царь распорядился «представлять… через состоящего при нем генерала от артиллерии графа Аракчеева». В комитет вошло и несколько вельмож. О том, как оказывалась помощь изувеченным воинам, рассказал Гоголь в «Повести о капитане Копейкине», вошедшей в «Мертвые души». Капитан Копейкин, потерявший в кампании 1812 года правую руку и ногу, кое-как добрался до Петербурга искать помощи у начальства. Ему указали на «высшую комиссию» и дали адрес ее начальника. Вельможа велел Копейкину наведаться на днях. И начались для Копейкина бесплодные хождения. А когда он, доведенный до крайности, вздумал возражать, то его с фельдъегерем препроводили к месту жительства.
Из дальних мест, из городов и деревень шли и ехали в столицу люди искать защиты и правосудия. Что же находили они? И в высших, и в низших инстанциях было беззаконие, произвол, мздоимство.
А уж правды нигдеНе ищи, мужик, в суде. Без синюхи[10] Судьи глухи,Без вины ты виноват.Чтоб в палату дойти,Прежде сторожу плати, За бумагу, За отвагу,Ты за все, про все давай!Там же каждая душаПокривится из гроша. Заседатель, ПредседательЗаодно с секретарем.Это строки из агитационной песни поэтов-декабристов К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева. Тут нет никакого поэтического преувеличения. Вопиющее неправосудие было делом обычным. О многих преступлениях, творившихся в судах, знал и рассказывал в обществе друг Рылеева и Бестужева писатель-декабрист Ф. Н. Глинка, служивший чиновником по особым поручениям при петербургском генерал-губернаторе Милорадовиче. Вот один из его рассказов. Унтер-офицерская жена Ромашева нанялась в услужение «к двум сестрам-девицам, имевшим наружность знатных господ, но в самом деле во всем смысле развратным». Заподозрив Ромашеву в краже вещей, одна из сестер, состоящая в связи с квартальным надзирателем, подала заявление в съезжий дом, и безвинную Ромашеву бросили в тюрьму при Управе благочиния, «ужасную по зловонию и нечистоте». «Оттоле она перешла все узаконенные мытарства и через надворный суд в уголовную палату. Нигде не чинили ей допроса, никуда налицо не приводили, но, судя ее за глаза, приговорили к наказанию плетьми и ссылке в Сибирь. По объявлении сего ужасного приговора и наказав плетьми, повергли опять невинную в ужасное заточение».
Увы! Куда ни брошу взор —Везде бичи, везде железы,Законов гибельный позор,Неволи немощные слезы;Везде неправедная властьВ сгущенной мгле предрассужденийВоссела – рабства грозный генийИ славы роковая страсть, —писал Пушкин в оде «Вольность».
Так было при Александре I.
Что же сделал, вступив на престол, Николай I? Он еще более усилил «неправедную власть». Департамента полиции Министерства внутренних дел и городской петербургской полиции для наведения «порядка» в стране и в столице ему показалось мало. И, предугадывая желание царя, уже в начале января 1826 года генерал Бенкендорф представил Николаю «Проект об устройстве высшей полиции». В проекте говорилось: «События 14 декабря и страшный заговор, подготовлявший уже более десяти лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному плану, приведенному как можно быстрее в исполнение».
Николай одобрил проект своего генерал-адъютанта. 25 июня 1826 года был издан указ о создании жандармской полиции во главе с Бенкендорфом. Еще через неделю Особую канцелярию Министерства внутренних дел преобразовали в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, и во главе ее был поставлен тот же Бенкендорф.
Третье отделение, разместившееся на Мойке в доме купца Таля, недалеко от Красного моста, первоначально было совсем небольшим – штат его составляли всего шестнадцать чиновников. Зато предоставленная в его распоряжение жандармская полиция (впоследствии отдельный корпус жандармов) была весьма многочисленна. Империю поделили на пять жандармских округов. Во главе каждого округа стоял генерал. В каждую губернию назначили одного штаб-офицера и нескольких обер-офицеров, в ведении которых находилась жандармская команда. Кроме того, Третье отделение пользовалось услугами многочисленных агентов – платных и добровольных.
Третье отделение обязано было искоренять крамолу, бороться с казнокрадством и взяточничеством, ловить фальшивомонетчиков и особо опасных уголовных преступников, следить за иностранцами и надзирать за русской литературой. Круг интересов Третьего отделения оказался столь обширен потому, что это учреждение призвано было контролировать деятельность и всего государства в целом, и каждого подданного в отдельности. В делах Третьего отделения имелись сведения о мужике, распространявшем слух про будто бы объявившегося где-то атамана Метелкина и утверждавшем, что «Пугачев пугал господ, а Метелкин пометет их». Здесь же находилась характеристика министра внутренних дел графа А. А. Закревского, в которой говорилось: «Гр. Закревский деятелен и враг хищений, но он совершенно невежда».
Как справлялась со своими обязанностями тайная полиция? Паническая боязнь «вольномыслия», которая определяла политику Николая I, особенно наглядно проявлялась в деятельности его тайных агентов и жандармов. Казнокрадство и взяточничество процветали, несправедливость и неправосудие по-прежнему были отличительными чертами государственной системы, а Третье отделение искореняло «крамолу». В инструкциях, рассылавшихся высшим жандармским чинам, говорилось, что обязанностью Третьего отделения является «охрана благополучия и достоинства жителей империи». На деле же роль этого учреждения свелась к установлению над всеми подданными мелочной, унизительной опеки и слежки.
Убедительный пример – отношение к Пушкину. Известна переписка Бенкендорфа с Пушкиным. Она велась из года в год, из месяца в месяц. Началась она вскоре после того, как Николай вернул поэта из михайловской ссылки, «простил» его и препоручил заботам шефа жандармов. Что ни письмо Бенкендорфа – то выговор, угроза, грозный запрос, предупреждение.
Генерал Бенкендорф обращался с Пушкиным как с неисправным поручиком. Тон, разумеется, задавал сам царь.
Поэту приходилось давать объяснения Бенкендорфу, Третьему отделению по поводу отрывка из элегии «Андрей Шенье», ходившего в списках с заголовком «На 14 декабря», по поводу виньетки на обложке поэмы «Цыганы», где изображены были опрокинутая чаша, змея и кинжал, по поводу чтения в частных домах трагедии «Борис Годунов», еще не разрешенной к печати высочайшим цензором, и в других случаях. Под бдительным оком жандармов был не только сам поэт, но и каждое его поэтическое слово.
Принципы и методы управления государством, взаимоотношения личности и государства – эти вопросы неотступно занимали Пушкина-мыслителя. Работая над «Историей Петра I», он беспристрастно оценивал деятельность царя-преобразователя в управлении страной: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом». Наследники Петра усвоили, главным образом, его грубые приемы, утратив его государственную мудрость.
В «Дневнике» Пушкина за 1834 год есть такая характеристика императора Николая I, данная поэтом от третьего лица: «Кто-то сказал о государе: Il’y a beaucoup de praporchique en lui, et un peu du Pierre le Grand»[11]. В 1830-е годы го». В 1830-е годы городом Петра Великого правил прапорщик. И в великом городе царил дух казармы.
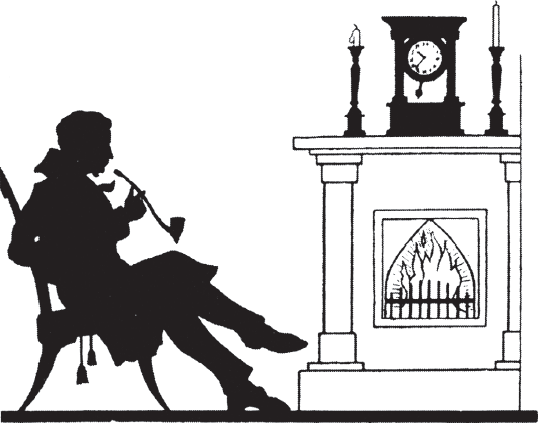
Глава шестая
«У суеверных алтарей»
Петербург был центром управления не только административными, но и «духовными» делами империи. Здесь находился Святейший правительствующий синод. Ему были подведомственны все российские епархии, настоятели и настоятельницы монастырей и все духовные чины, две синодальные конторы – московская и грузинско-имеретинская, духовные академии и семинарии. С начала 1830-х годов Синод занимал огромное здание на Сенатской площади рядом с Сенатом.
У Пушкина в материалах к «Истории Петра» есть запись: «По учреждении Синода духовенство поднесло Петру просьбу о назначении патриарха. Тогда-то (по свидетельству современников – графа Бестужева и барона Черкасова) Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: „Вот вам патриарх“».
Духовенство в России целиком подчинялось царю. Патриаршество было упразднено. Главою православной, греко-российской церкви являлся царь.
Председательствовал в Синоде санкт-петербургский митрополит, но членов этого учреждения (из духовных лиц) назначал царь. При Синоде имелась должность обер-прокурора, занимаемая светским лицом – «око государя и стряпчий по делам государственным». Обер-прокурор Синода обладал правами министра. Он объявлял Синоду распоряжения царя и докладывал царю о положении дел в Синоде. Он же осуществлял связь Синода со светскими правительственными учреждениями.
Такие широкие полномочия обер-прокурор Синода получил с начала царствования Александра I. Взойдя на престол, Александр захотел иметь в Синоде доверенное лицо. И, к всеобщему изумлению, назначил на эту должность своего любимца князя А. Н. Голицына – человека, щеголявшего в узком кругу вольномыслием и даже безбожием. Заняв должность обер-прокурора Синода, недавний богохульник разительно переменился – впал в набожность и даже в мистицизм на новомодный европейский манер. В предоставленном ему правительством доме на Фонтанке, против Летнего сада, Голицын устроил роскошную и мрачную домовую церковь.
В верхнем этаже дома Голицына жили друзья Пушкина – братья Александр Иванович и Николай Иванович Тургеневы (первый был директором Департамента духовных дел и иностранных исповеданий). И, приходя к ним, Пушкин слышал заунывное церковное пение, доносившееся из домовой церкви князя Голицына, видел знатных особ, приезжавших сюда молиться.
С 1817 года Голицын возглавлял Министерство духовных дел и народного просвещения.
Вся придворная атмосфера с середины 1810-х годов была пропитана мистицизмом и религиозной экзальтацией. Придворные дамы и царедворцы слушали заезжих проповедников, прорицателей, выискивали «святых людей». Тогда же с благословения Голицына, по примеру парижского и лондонского, появилось петербургское Библейское общество, ставившее своей целью изучение и распространение Библии. Оно помещалось в подаренном ему царем доме на Екатерининском канале. В Общество были приглашены представители всех христианских вероисповеданий, жившие в Петербурге. На его собраниях рядом с петербургским митрополитом Михаилом и ректором духовной академии Филаретом сидели лютеранские и англиканские проповедники, католический епископ Сестренцевич.
Ересь… Угроза истинной вере… Православное духовенство открыто роптало и стало объединяться для борьбы с Голицыным и новомодными мистиками. Во главе православной партии встал монах-изувер Фотий.
Пушкин клеймил в своих эпиграммах и Голицына, и Фотия. О последнем он писал:
Полу-фанатик, полу-плут;Ему орудием духовнымПроклятье, меч, и крест, и кнут.Пошли нам, Господи, греховным,Поменьше пастырей таких, —Полу-благих, полу-святых.Задумав свалить Голицына, Фотий развил бурную деятельность. Он неусыпно следил за всеми действиями мистиков, читал их книги, делал выписки. Скупал и жег «масонские» издания, чтобы они не разошлись в публике. Подкупал слуг в тех домах, где устраивались собрания мистиков, чтобы из потаенного места все видеть и слышать.
Православная партия заручилась поддержкой всесильного Аракчеева и нового санкт-петербургского митрополита Серафима. В конце концов Голицыну пришлось подать в отставку.
Православная партия с такой же готовностью служила властям, как и мистики во главе с Голицыным. А целью Александра I было превратить церковь в своего рода духовную полицию. Аракчеевщину насаждали и в делах религии.
Роль духовных полицейских отводилась «святым отцам» и при Николае I. Понятие о том, сколь рьяно стремились угождать власть имущим многие православные иерархи, дает проповедь, произнесенная митрополитом новгородским и петербургским Никанором в январе 1832 года. Говоря об особе государя императора, митрополит возгласил: «Вы знаете, что избирает его сам Бог, который и помазует его на царство, и превозносит. Он представляет образ Царя Небесного на земле… Назначает ли подати и налоги? Мы должны платить без роптания… Требует ли от нас наших детей для защиты отечества? В сем случае мы должны жертвовать не только жизнью своих сынов, но и собственною своею, только бы спасти престол и царство…»
Священники в церквах в обязательном порядке должны были возносить молитвы за царя. В столичных храмах с особой торжественностью праздновали ежегодные «табельные» дни – коронования, рождения, именин императора.
В сугубо монархическом духе излагали Закон Божий в учебных заведениях. Основой преподавания с середины 1820-х годов служил катехизис, составленный митрополитом Филаретом. Толкуя десять заповедей, Филарет требовал почитать все предержащие власти, как отца и мать.
Высшие церковные иерархи 14 декабря 1825 года наряду с шефом столичной полиции генерал-губернатором Милорадовичем пытались уговорить восставших солдат вернуться в казармы. После подавления восстания Николай I сразу же постарался привлечь церковь к политическому сыску.
Декабрист Михаил Бестужев рассказывал, как, будучи брошен в Петропавловскую крепость и ожидая близкой смерти, встретил явившегося к нему священника: «Спокойно, даже радостно я пошел к нему навстречу – принять благословение, и, принимая его, мне казалось, что я уже переступил порог вечности, что я уже не во власти этого мира и мысленно уже уносился в небо. Он сел на стул подле стола, указывая место на кровати. Я не понял его жеста и стоял перед ним на коленях, готовый принести чистосердечное покаяние на исповеди, перед смертью.
– Ну, любезный сын мой, – проговорил он дрожащим от волнения голосом, вынимая из-под рясы бумагу и карандаш, – при допросах ты не хотел ничего говорить; я открываю тебе путь к сердцу милосердного царя. Этот путь есть чистосердечное признание…
С высоты неба я снова упал в грязь житейских дрязг… В служителе алтаря я должен был признать не посредника между земною и небесною жизнию, не путеводителя, на руку которого опираясь я надеялся твердо переступить порог вечности, но презренное орудие деспотизма, сыщика в рясе! Я не помню, не могу отдать верного отчета, что сталось со мною. Я поднялся с колен и с презрением сказал:
– Постыдитесь, святой отец! что вы, несмотря на ваши седые волосы, вы, служитель Христовой истины, решились принять на себя обязанность презренного шпиона?»
В соответствии с возложенными на них полицейскими функциями «святые отцы» порой выступали и в роли тюремщиков: политических преступников иногда ссылали «на покаяние» в монастыри. Такому наказанию подверглись некоторые декабристы.
Ссылка в Соловецкий монастырь, как уже говорилось, угрожала Пушкину.
Церковь оказывала помощь самодержавному государству и в его борьбе с «вредными» идеями. Устав духовной – то есть церковной – цензуры, утвержденный в 1828 году, предписывал защиту православия от «богохульных и дерзких извращений вольнодумцев» и обязывал духовных цензоров искоренять мысли, «пахнущие вольностью и неуважением к власти, от Бога установленной».
Церковники весьма враждебно относились к поэзии Пушкина. А. В. Никитенко в марте 1834 года записал в своем дневнике слышанный им «забавный анекдот» о том, как митрополит Филарет жаловался Бенкендорфу на то, что в описании Москвы в «Евгении Онегине» сказано: «И стаи галок на крестах». Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что «галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор». В конце 1820-х годов по инициативе петербургского митрополита Серафима было начато дело против Пушкина из-за его «богохульной» поэмы «Гавриилиада»…
В заметках, дневниковых записях и письмах Пушкина немало резких критических суждений о православной церкви и ее служителях.
В поэме «Цыганы», рисуя картину современного ему общества, в том числе и петербургского, Пушкин выделяет как его необходимую принадлежность и «суеверные алтари»:
О чем жалеть? когда б ты знала,Когда бы ты воображалаНеволю душных городов —За неподвижными стенамиТам люди тесными толпамиНе дышат запахом лугов —Там вольность покупают златом,Балуя прихоть суеты,Торгуют вольностью – развратомИ кровью бледной нищеты.Любви стыдятся, мысли гонят,У суеверных алтарейГлавы пред идолами клонятИ молят денег и цепей.Эти строки остались в черновике поэмы, опубликовать их Пушкин, конечно, не мог – защитой «суеверным алтарям» служила вся мощь самодержавного государства, одним из учреждений которого была православная церковь.
В 1801 году в Петербурге проживало 520 представителей православного духовенства. Через двадцать лет число их увеличилось до 1991 и продолжало расти.
Священники и причт жили в церковных домах. Высшее духовенство – в Александро-Невской лавре.
Петербург был город молодой и деловой, церквей в нем было сравнительно немного. В конце 1830-х годов насчитывалось православных соборов и приходских церквей 46, домовых – 100, часовен – 45. По праздникам звонили в 626 колоколов.
Российское правительство воздвигало храмы не только для совершения религиозных обрядов и вознесения молитв. Здесь была и другая, мирская цель – сделать столичный город Санкт-Петербург еще пышнее и торжественнее. Поэтому для постройки парадных церквей и соборов отпускались огромные суммы (так, Исаакиевский собор стоил более 23 миллионов рублей). Воздвигать их поручали выдающимся зодчим.
Петропавловский собор, собор Смольного монастыря, Никольский Морской, Троицкий собор в лавре, Казанский, Троицкий, Преображенский соборы – творения Д. Трезини, Ф.-Б. Растрелли, С. И. Чевакинского, И. Е. Старова, А. Н. Воронихина, В. П. Стасова – замечательные образцы мирового зодчества, сокровища русской архитектуры. Грандиозность и красота этих зданий поражали воображение. Внутреннее убранство тоже было великолепным. Иконостасы создавали талантливые мастера, иконы и роспись – лучшие художники, скульптуру – лучшие скульпторы. На оклады старинных «нерукотворных» и «чудотворных» икон, так же как на церковную утварь, не жалели ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней.
Такие соборы, как Петропавловский, Казанский, Преображенский, служили хранилищами русской славы.
В Петропавловском соборе, где хоронили царей начиная от Петра I, были собраны и развешаны военные трофеи русских войск, добытые в войнах с турками. Знамена, флаги, вымпелы, ключи от крепостей, оружие, бунчуки… У могилы Петра I лежало знамя турецкого капудан-паши, взятое русскими войсками, разбившими морской флот Турции в 1770 году.
В Казанском соборе находились военные трофеи, взятые в годы войны с Наполеоном. Здесь висело множество знамен, лежали ключи от крепостей и городов, жезл маршала Даву. Одной из достопримечательностей собора был огромный литой серебряный иконостас. Его отлили из 100 пудов серебра, отбитого у французов казаками Войска Донского.



