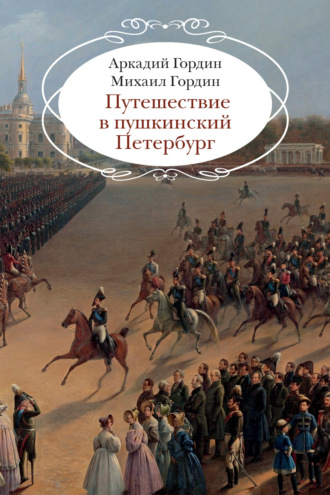
Полная версия
Путешествие в пушкинский Петербург
Под сенью знамен в соборе покоился Кутузов.
Перед гробницею святойСтою с поникшею главой…Все спит кругом; одни лампадыВо мраке храма золотятСтолбов гранитные громадыИ их знамен нависший ряд…Так писал Пушкин о гробнице Кутузова.
Новый Преображенский собор, отстроенный после пожара в конце 1820-х годов, был полковой церковью старейшего гвардейского Преображенского полка. Внутри собора хранились военные трофеи, а ограду составляли красиво сгруппированные и соединенные цепями стволы турецких пушек, захваченных у неприятеля во время Русско-турецкой войны 1828 года.
29 августа во всех церквах служили панихиду по русским воинам, павшим на поле боя; 25 декабря – благодарственный молебен за избавление России от нашествия Наполеона и «двунадесяти языков». Торжественные богослужения бывали на Рождество, на Пасху и еще несколько раз в году.
Особый, петербургский характер был у богослужений по праздникам, связанным с водой. В Крещение на Неве против Зимнего дворца сооружали деревянный храм с широкой террасой и открытой галереей. На первой совершался молебен, на второй размещались знамена гвардейских полков, принесенные для освящения водой из проруби – иордани. В церкви Зимнего дворца митрополит служил молебен, а оттуда крестный ход через главный подъезд спускался к иордани. Воду святили – в прорубь погружали крест. При этом в крепости палили пушки, а выстроенные тут же солдаты гвардейских полков стреляли из ружей. В связи с этим главный подъезд Зимнего дворца получил название Иорданского, а главная парадная лестница – Иорданской. В день Преполовения, праздновавшийся весной, крестный ход устраивали у Невы на стенах Петропавловской крепости и молились о том, чтобы не было наводнений.
В апреле 1828 года друг Пушкина писатель П. А. Вяземский сообщал жене: «Сегодня праздник Преполовения, праздник в крепости. В хороший день Нева усеяна яликами, ботиками и катерами, которые перевозят народ… Сегодня и праздник ранее, и день холодный, но, однако же, народа было довольно. Мы садились с Пушкиным в лодочку… Пошли бродить по крепости и бродили часа два».
Все жители Петербурга считались паствой ближайшей к их дому церкви. Здесь они должны были молиться, исповедоваться, причащаться. Те, кто не ходил в церковь, могли быть обвинены в вольнодумстве. Здесь венчались, крестили младенцев и отпевали умерших. Правда, простых людей отпевали обычно в кладбищенских церквах.
Живя в Коломне в доме Клокачева, Пушкины были прихожанами Покровско-Коломенской церкви, которая стояла недалеко от их дома, на Покровской площади. В «Домике в Коломне», рассказывая о жизни своей героини Параши, Пушкин вспоминал эту церковь:
По воскресеньям, летом и зимою,Вдова ходила с нею к ПокровуИ становилася перед толпоюУ крылоса налево. Я живуТеперь не там, но верною мечтоюЛюблю летать, заснувши наяву,В Коломну, к Покрову – и в воскресеньеТам слушать русское богослуженье.Даже здесь, в церкви, где, казалось бы, все равны, прихожане молились по-разному. И здесь играло роль их положение в обществе.
Туда, я помню, ездила всегдаГрафиня… (звали как, не помню, право).Она была богата, молода;Входила в церковь с шумом, величаво;Молилась гордо (где была горда!).Бывало, грешен! все гляжу направо,Все на нее. Параша перед нейКазалась, бедная, еще бедней.Порой графиня на нее небрежноБросала важный взор свой. Но онаМолилась Богу тихо и прилежноИ не казалась им развлечена.Смиренье в ней изображалось нежно;Графиня же была погруженаВ самой себе, в волшебстве моды новой,В своей красе надменной и суровой.Случалось, что, живя в доме Клокачева, Пушкины всей семьей ходили по праздникам в церковь Театральной школы, находившуюся неподалеку. Одна из воспитанниц этой школы, актриса А. М. Каратыгина-Колосова, впоследствии вспоминала: «Пушкины и графиня Ивелич на Страстной неделе говели вместе с нами в церкви Театрального училища (на Офицерской улице, близ Большого театра). Помню, как графиня Екатерина Марковна рассказывала мне, что Саша Пушкин, видя меня глубоко растроганною за всенощною Великой пятницы, при выносе святой плащаницы, просил сестру свою Ольгу Сергеевну напомнить мне, что ему очень больно видеть мою горесть, тем более что Спаситель воскрес; о чем же мне плакать? Этой шуткой он, видимо, хотел обратить на себя мое внимание…»
Юный Пушкин ходил в церковь Театрального училища, чтобы увидеть будущих актрис. То в одну, то в другую он время от времени влюблялся. Девушек держали строго. Церковь была единственным местом, куда допускались посторонние.
25 января 1828 года в метрической книге собора Святой Троицы – церкви Измайловского полка, в графе «Кто именно венчаны», была сделана следующая запись: «Состоящий в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел чиновник 9-го класса Николай Павлищев с дочерью статского советника Сергея Пушкина, девицей Ольгой, как жених, так и невеста первым законным браком венчаны священником Симеоном Александровым». За этой краткой записью скрывалась необычная история замужества сестры Пушкина – Ольги Сергеевны, которая обвенчалась со своим женихом тайно, не спросясь согласия родителей.
В метрической книге Владимирской церкви за июль того же 1828 года в графе «Кто именно померли» есть запись: «5-го класса чиновника Сергея Пушкина крепостная женщина Арина Родионова». В графе «Лета» проставлен возраст умершей – 70 лет. В графе «Какою болезнию» указано: «Старостию». Няня Пушкина Арина Родионовна недолго была прихожанкой Владимирской церкви. Последние месяцы своей жизни она провела у жившей в Большом Казачьем переулке Ольги Сергеевны. Выйдя замуж и обзаведясь собственным домом, Ольга Сергеевна вызвала себе в помощь из села Михайловского свою старую няню. Но вскоре Арина Родионовна заболела и умерла.
И еще одна церковь в Петербурге связана с именем Пушкина – церковь Конюшенного ведомства, построенная В. П. Стасовым на Конюшенной площади, вблизи того места, где жил Пушкин. После смерти поэта отпевать его предполагалось в Исаакиевском соборе Адмиралтейства. Однако 1 февраля 1837 года А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, – так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви».
3 февраля в полночь, опять-таки тайно, тело Пушкина из Конюшенной церкви было увезено в Псковскую губернию, в Святогорский монастырь. Поэт завещал похоронить себя на родовом кладбище. «Умри я сегодня, – писал он жене летом 1834 года, – что с вами будет? Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку». Весной 1836 года, когда Пушкин ездил в Святые Горы хоронить мать, он купил подле могилы матери место для себя…
Среди столичных кладбищ были и привилегированные, были и попроще.
Наиболее заслуженных и знатных особ хоронили в Александро-Невской лавре. Этот большой монастырь, находившийся в самом конце Невского проспекта, начали строить еще при Петре I.
В Благовещенской церкви лавры был похоронен Суворов. Об этом гласила лаконичная надпись на бронзовой доске: «Здесь лежит Суворов». Так велел написать сам великий полководец. Под пышными надгробиями покоились военачальники, вельможи, царедворцы. На Лазаревском и Ново-Лазаревском (Тихвинском) кладбищах лавры хоронили известных писателей, художников, скульпторов, архитекторов, ученых. Здесь были похоронены М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин, скульптор М. И. Козловский, архитекторы И. Е. Старов и А. Н. Воронихин.
Привилегированным считалось и Волково кладбище. В. Бурьянов в 1838 году писал о нем как об очень хорошо убранном и устроенном. «Прогулка по кладбищу, устроенному в виде сада и цветника, с множеством превосходнейших памятников, не может не быть интересна».
На Смоленском кладбище хоронили небогатых купцов, лиц «среднего сословия», то есть мещан, людей «простого звания». Здесь была похоронена няня Пушкина Арина Родионовна. Об этом имеется запись в «Ведомости города Санкт-Петербурга церкви Смоленския Божия Матери, что на Васильевском острове при кладбище».
Еще скромнее было Большеохтинское кладбище, о котором упоминается в поэме «Домик в Коломне»:
…С бедною кухаркойОни простились. В тот же день пришлиЗа ней и гроб на Охту отвезли.Летом 1836 года, живя с семьей на даче на Каменном острове, Пушкин заходил на ближайшее, Благовещенское, кладбище.
Когда за городом, задумчив, я брожуИ на публичное кладбище захожу,Решетки, столбики, нарядные гробницы,Под коими гниют все мертвецы столицы,В болоте кое-как стесненные рядком,Как гости жадные за нищенским столом,Купцов, чиновников усопших мавзолеи,Дешевого резца нелепые затеи,Над ними надписи и в прозе и в стихахО добродетелях, о службе и чинах;По старом рогаче вдовицы плач амурный,Ворами со столбов отвинченные урны,Могилы склизкие, которы также тутЗеваючи жильцов к себе на утро ждут, —Такие смутные мне мысли все наводит,Что злое на меня уныние находит,Хоть плюнуть да бежать…(«Когда за городом, задумчив, я брожу…»)Вид столичного кладбища – того пристанища, что было уготовано петербуржцам после смерти, – являл глазам поэта те же отвратительные, те же нелепые черты, которые отталкивали его и в петербургской жизни.

Глава седьмая
«Военная столица»
Во вступлении к «Медному всаднику» Пушкин писал:
Люблю, военная столица,Твоей твердыни дым и гром,Когда полнощная царицаДарует сына в царский дом,Или победу над врагомРоссия снова торжествует,Или, взломав свой синий лед,Нева к морям его несет,И, чуя вешни дни, ликует.Пушкин не случайно назвал Петербург «военной столицей». Город просыпался под звуки барабанов. По торжественным случаям, а также при вскрытии Невы и при подъеме в ней воды из Петропавловской крепости, из Адмиралтейства, из Галерной гавани, с кораблей палили пушки.
В Петербурге к середине 1830-х годов было около 50 тысяч солдат и матросов, что составляло более 10 процентов населения. На улицах то и дело мелькали эполеты, кивера, султаны.
В это время в столице постоянно размещалось двенадцать пехотных и кавалерийских гвардейских полков, две гвардейские артиллерийские бригады, гвардейская конная артиллерия, Гвардейский экипаж, множество отдельных эскадронов, дивизионов, учебных частей, а также Военная академия, Артиллерийское и Инженерное училища, Школа гвардейских подпрапорщиков, кадетские корпуса, Морской кадетский корпус, дворянский полк, Школа кантонистов и многие другие военные учебные заведения.
В Петербурге находились Военное министерство, Главный штаб, Главное адмиралтейство.
И монументы на площадях столицы (не считая двух памятников основателю города) были воздвигнуты в честь военачальников – фельдмаршалов Румянцева-Задунайского, Суворова-Рымникского, позже – Кутузова-Смоленского и Барклая-де-Толли. После победного завершения войны с Наполеоном, в эпоху общественного подъема, несколько комнат Зимнего дворца перестроили в грандиозную галерею, чтобы в ней разместить портреты русских генералов, командовавших войсками в годы Отечественной войны. Из Англии был выписан знаменитый портретист Д. Доу. В помощь себе он нанял двух петербургских живописцев – А. В. Полякова и В. А. Голике. Художники работали семь лет, и в конце 1826 года Военная галерея Зимнего дворца была открыта для обозрения.
У русского царя в чертогах есть палата:Она не золотом, не бархатом богата;Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;Но сверху донизу, во всю длину, кругом,Своею кистию свободной и широкойЕе разрисовал художник быстроокой.〈…〉Толпою тесною художник поместилСюда начальников народных наших сил,Покрытых славою чудесного походаИ вечной памятью двенадцатого года.Нередко медленно меж ими я брожуИ на знакомые их образы гляжу,И, мнится, слышу их воинственные клики.(«Полководец»)Пушкин знал многих из тех, чьи портреты украшали Военную галерею.
Во всех частях «военной столицы» стояли казармы гвардейских полков. В самом центре города близ Зимнего дворца на Большой Миллионной – казармы первого батальона Преображенского полка. Близ Мраморного дворца на Марсовом поле – Павловского полка. У Исаакиевской площади – Конного полка и Конногвардейский манеж. На Кирочной улице близ Таврического сада – казармы двух батальонов Преображенского полка. В том же районе, на Воскресенском проспекте, – корпуса огромных казарм Кавалергардского полка и Кавалергардский манеж. Близ них – казармы Конной артиллерии и саперного батальона. В четвертом квартале Московской части на Загородном проспекте и в «ротах» – Семеновского полка. На Литейной улице – первой гвардейской артиллерийской бригады. У Семеновского моста на набережной Фонтанки – Московского полка. В районе Обводного канала – Егерского полка. На Петербургской стороне вдоль набережных реки Карповки и Большой Невки тянулись казармы Гренадерского полка. На 18-й и 19-й линиях Васильевского острова помещался Финляндский полк. На Выборгской стороне – Литовский полк. В Нарвской части – Измайловский полк и за Шлиссельбургской заставой – Казачий полк. На Охте – вторая гвардейская артиллерийская бригада. Казармы Гвардейского экипажа находились на Екатерингофском проспекте близ Никольского собора.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Верста – 1200 метров.
2
Сажень – примерно 2 метра.
3
Аршин – почти 71 сантиметр.
4
Вершок – 4,5 сантиметра.
5
Модистка (фр.).
6
То есть побил палкой (лат.).
7
То есть на пятый этаж.
8
Сверх того (фр.).
9
Фунт – 409,4 грамма, лот – 12,5 грамма.
10
Пятирублевая ассигнация («синенькая»).
11
В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого (фр.).



