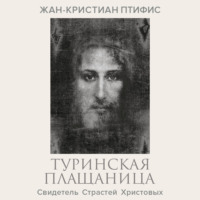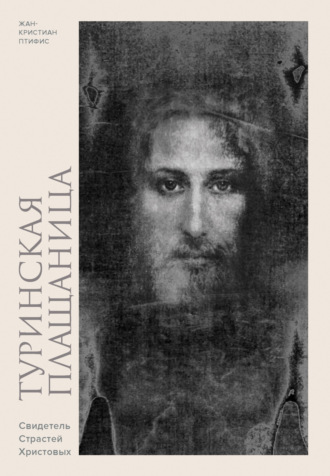
Полная версия
Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых
– «Честной гвоздь, до нынешнего времени не изъеденный никакой ржавчиной из-за того, что пронзил с другими тремя [гвоздями] чуждую скверны и никакому злу не причастную плоть Христа во время Страстей».
– «Бич, тоже железный… кольцом окружил шею».
– «Гробные пелены Христа. Они – из льна, дешевого простого материала, еще дышащие миром, возвышающиеся над тлением, ибо невместимого, мертвого, обнаженного, умащенного после Страстей обвивали».
– «Этот повязываемый поверх одежды лентион, который многие называют полотенцем, и до нынешнего дня хранящий чудо – влагу и воду, вытертую с апостольских прекрасных ног, благовестивших мир».
– «Копие, Господне ребро прободившее… Тот, чей взгляд острый и проницательный, увидит, что все оно окровавлено».
– «Сей багряный хитон, в который нечестивцы, глумясь, словно над царем иудейским, облекли Господа славы».
– «В десницу Христу Спасителю данная трость».
– «Следы Господних стоп – так называются сандалии».
– «В этом декалоге последний – камень, высеченный из Гроба… […] Камень сей краеугольный краеугольного Христа… Камень, ставший гробом Богочеловека…»
Затем Месарит упоминает некоторые другие реликвии, подчеркивая их необычайную выразительную силу: «Итак, вот перед вами, люди, декалог. Представлю же теперь и Самого Законодавца, запечатленного словно на первообразном полотне и начертанного на мягкой глине будто неким нерукотворным живописным искусством. Что же вынуждает меня столь пространно повествовать?»
И наконец, прелат приводит дорогое его сердцу сравнение: Константинополь и особенно императорский храм стали новыми Святыми местами, так как несут в себе память: «Этот храм, это место – иной Синай, Вифлеем, Иордан, Иерусалим, Назарет, Вифания, Галилея, Тивериада, умовение ног, тайная вечеря, гора Фавор, преторий Пилата и место Краниево, по-еврейски называемое Голгофа. Здесь рождается, здесь крещается, шествует по морю, ходит по суше, творит чудеса, уничижается подле купели… являя нам пример молитвы – сколько необходимо пролить слез и сколько молиться. […] Там Его погребают, и камень, отваленный от гроба, в этом храме свидетельствует о Слове. Здесь Он воскресает, и сударион с гробными пеленами – в удостоверение. […] Вместо грабителей сделаемся спасителями этого храма и защитниками его».
Нам неинтересны лирический аспект и вычурность в византийском стиле, целью которых было придать Страстям особую реалистичность: терновый венец распускается, погребальные пелены пахнут миррой, полотенце апостолов все еще влажное, копье покрыто кровью почти одиннадцать веков спустя. Эти восточные гиперболы нисколько не умаляют свидетельства автора.
В стремлении отвести Константинополю столь же выдающееся место, что и Иерусалиму, отметим иерархию христианских реликвий в императорском храме. В 1201 году наиболее почитаемой святыней была не Плащаница, а Терновый венец, символизирующий все страдания, перенесенные Иисусом ради спасения человечества. Далее по той же причине следуют гвоздь и железный бич. «Гробные пелены» заняли лишь четвертое место. А Мандилион, полотенце с бахромой, на котором, как предполагалось, был запечатлен лик Христа и который Николай Месарит четко отличает от пелен, похоже, попал в категорию второстепенных реликвий, поскольку не был связан со Страстями и воскресением Христа, а значит, не имел отношения и к искуплению грехов человечества, чему в то время придавалось большое теологическое значение.
Если рассмотреть описание «гробных пелен», то здесь все указывает на то, что это наша Плащаница, о чем в первую очередь свидетельствует материал – лен. Тот факт, что в тексте упоминается об «обнаженном» и «умащенном» теле, показывает, что Месарит наверняка видел развернутое полотно и отметил следы, оставленные телом в момент Воскресения. В то время не было принято упоминать об обнаженности тела Христа, которое часто изображалось в набедренной повязке. Что касается слова «умащенный», то, очевидно, речь идет не о бальзамировании, обработке тела с извлечением внутренних органов – процедуре, совершенно немыслимой на земле Израилевой, – а о смазывании благовониями. Более того, это описание полностью соответствует одной из миниатюр рукописи Прая, изображающей обнаженное тело Иисуса, на которое Иосиф из Аримафеи льет бальзам.
Добавим, что в стычке, последовавшей за вторжением бунтовщиков в дворцовый комплекс, Месарит был серьезно ранен[117]. После их поражения он написал «Речь о подавлении мятежа Иоанна Комнина».
Глава IV
В поисках «исчезнувшей» Плащаницы
Робер де КлариРобер де Клари, пикардский рыцарь, сын Гилона де Клари, родился около 1170 года. Ему принадлежал скромный феод в местечке под названием Клери[118], в 18 км к северо-западу от Амьена, площадью всего 6 гектаров и 45 акров. В 1202 году он вместе со своим братом по имени Аллеом и сюзереном Пьером Амьенским, «смелым и доблестным» лордом Виньякура и Фликскура, отправился в Четвертый крестовый поход.
Какой же катастрофой обернулось это предприятие! История гласит, что латиняне, или франки, вместо того чтобы, как планировалось, завоевать Палестину через Египет, захватили христианский город Зару (ныне Задар) в Далмации и передали его венецианцам в уплату долга. Затем под предводительством знатного итальянского сеньора Бонифация Монферратского они осадили богатый схизматический Константинополь, потому что император Исаак II Ангел, свергнутый в результате дворцового переворота собственным братом Алексеем III и по византийскому обычаю ослепленный, посулил им за то немалую награду. 27 июня 1203 года впечатляющая армада – 210 кораблей и галер дожа Дандоло – перевезла 10 000 крестоносцев, баронов и рыцарей, а также 10 000 венецианцев в Скутари (современный Ускюдар) на азиатскую сторону Босфора вместе со всем оружием, военными машинами и лошадями. Переправившись через пролив, они прорвали цепь, защищавшую Золотой Рог, подошли к Константинополю и 17 июля захватили его. Узурпатор Алексей III Ангел пытался им противостоять. Выйдя из города с превосходящей по численности армией, он, к великому возмущению своих полководцев, трусливо отступил и в ту же ночь бежал, прихватив с собой императорские одежды и драгоценности.
Латиняне отошли в пригород Галаты, на другую сторону Золотого Рога, где разбили свои шатры, а Исаак II Ангел снова принял императорские регалии. Из-за слепоты он был вынужден взять в соправители своего юного сына Алексея IV Ангела, который изъявил покорность Риму. Стремясь угодить жадным крестоносцам, оба действовали так неуклюже, что в январе 1204 года народ взбунтовался против них и посадил на трон отпрыска знатного рода, враждебного Ангелам, Алексея V Дуку.
Продолжение нам известно. Не получив полной награды, которую обещал им Исаак II Ангел, умерший вскоре после свержения с престола и казни Алексея IV, крестоносцы, для которых деньги были важнее всего, вновь напали на великий город. Деморализованная, истощенная дезертирством византийская армия не смогла оказать им должного сопротивления. 12 апреля 1204 года латиняне, починив каменный мост перед Большим Влахернским дворцом, пробили в крепостных стенах бреши и захватили этот великолепно украшенный архитектурный ансамбль, а также прилегающую к нему церковь Богоматери. Три дня они жгли «Новый Рим», разоряя богатые особняки, перерезая глотки, вскрывая гробницы в поисках сокровищ. Там хранились несметные богатства, тысячи статуй, скульптур и золотых изделий религиозного характера: чаши, священные сосуды, иконы и драгоценные золотые реликварии, отделанные самоцветами.
Как и все константинопольские греки, Николай Месарит, педантичный и бдительный хранитель императорской сокровищницы Фаросской церкви, в ужасе и бессилии наблюдал за разграблением его города крестоносцами. «Распаленные боем меченосцы, жаждущие убийства, облаченные в броню и вооруженные копьями, лучники, кичливые всадники, что лают словно Цербер и дышат как Харон, грабили храмы, растаптывая святыни, круша утварь, сбрасывая на пол священные иконы Христа и Его Пресвятой Матери и всех святых, от века ему богоугодивших»[119].
Наконец 16 мая латиняне провозгласили императором одного из своих лидеров, тридцатичетырехлетнего Бодуэна VI Эно, под именем Балдуина I, и короновали его в Софийском соборе. Так родилась Латинская империя, на границах которой образовались более или менее независимые княжества. Бонифаций Монферратский стал королем Фессалоники; Жоффруа де Виллардуэн – правителем княжества Морейского, принцем Мореи; Гильом де Шамплит – князем Ахейским; Оттон де ла Рош – мегаскиром (великим сеньором) Афинским и Фиванским. Словом, все земли стали добычей крупных и мелких аристократов. Эти преступления, осквернения и грабежи, которые в то время ужаснули папу Иннокентия III, до сих пор омрачают память христианского мира[120].
«Саван Господа нашего»Жоффруа де Виллардуэн, знаменитый рыцарь и маршал Шампани, рассказывает в своей хронике, что перед последним катаклизмом, летом и осенью 1203 года, крестоносцы и венецианцы переправлялись через Золотой Рог на лодке из лагеря в Галате, чтобы прогуляться по городу. Там, на захваченной территории, они порой провоцировали драки и грабежи[121], а однажды – и пожар, опустошивший значительную часть города.
Робер де Клари был в числе этих визитеров. В своем «Завоевании Константинополя»[122], рукопись которого, хранящаяся в Королевской библиотеке Копенгагена, неоднократно переводилась с пикардского, рыцарь, восторженно и в красках поведав о чудесах Константинополя – роскошных мраморных дворцах, порфировых колоннах, церквях, часовнях и монастырях, – упоминает о Плащанице Христовой: «…был там еще один монастырь, называвшийся именем Святой Девы Марии Влахернской; в этом монастыре был саван, которым был обернут наш Господь. Каждую пятницу этот саван выставлялся прямо, так что можно было хорошо видеть фигуру Господа нашего, и никто – ни грек, ни француз – не узнал, что сталось с этим саваном, когда город был взят».
Хотя де Клари избегал рассказывать о себе, вполне вероятно, как полагает Жан Лоньон, автор исследования о спутниках де Виллардуэна[123], что он присутствовал лично при одной из таких церемоний. Как бы то ни было, этот отрывок представлялся историкам Плащаницы крайне важным, и подавляющее большинство из них принимали слова крестоносца за истину[124].
Все пришли к выводу, что власти, должно быть, в порядке исключения вынесли драгоценный саван из Фаросской церкви, расположенной к югу от города, и перевезли на четыре с лишним километра севернее, в почитаемый храм Влахернской Богоматери.
Исследователи высказывали предположения, что в тех драматических обстоятельствах, в которых оказался Константинополь в начале XIII века, пятничные церемонии, упомянутые рыцарем, были молитвой к Спасителю о защите столицы империи.
Как объясняет Йен Уилсон, задачей было «убедить жителей Константинополя: им нечего бояться неотесанных крестоносцев в этих стенах, что Христос и Дева Мария на их стороне и защищают их, как и прежде, всякий раз, когда им угрожала опасность за всю долгую историю города»[125].
Поскольку было известно, что на протяжении двухсот пятидесяти девяти лет Плащаница вместе с другими реликвиями Страстей Христовых бережно хранилась в стенах императорского дворца, исследователи заключили, что синдоний, выставляемый каждую пятницу во Влахернах, вечером возвращался на свое первоначальное место, возможно, вместе с Мандилионом, в золотой «сосуд», подвешенный на серебряных цепях к своду Фаросской церкви.
Кроме того, в описании святилищ Константинополя, перечисляя реликвии, хранившиеся в дворцовой церкви, Робер де Клари не преминул упомянуть, что там можно увидеть «два богатых золотых сосуда, которые висели в часовне на двух больших серебряных цепях; в одном из этих сосудов была черепица, а в другом – кусок полотна». Он даже объяснил их происхождение. Некий святой человек из Константинополя унаследовал полотно, на котором загадочным образом был отпечатан портрет Иисуса. Бесплатно ремонтируя дом бедной вдовы, он спрятал свое сокровище под черепицей перед тем, как ненадолго отлучиться. По возвращении он с изумлением обнаружил, что изображение проявилось на одной из плиток… Вот что по прошествии веков осталось от легенды о царе Авгаре с ее многочисленными причудливыми вариациями!
Клари описывает Влахернский синдоний как длинный отрез ткани, выставлявшийся «прямо», на котором можно было увидеть «фигуру» (figure) Христа в старинном смысле этого слова[126], то есть не только лицо, но и все тело[127]. Возможно, он поднимался с помощью потайного механизма, чтобы изобразить явление Святого Духа, в подражание так называемому «обыкновенному чуду», обряду, который совершался во Влахернской церкви по крайней мере до 1200 года.
Каждую пятницу после захода солнца во время вечерни всех собравшихся в храме, в том числе 75 членов духовенства, просили выйти, после чего двери закрывались. Через несколько мгновений все возвращались в церковь. И там – о чудо – шелковое покрывало, которым была занавешена половина почитаемой иконы Богоматери с Младенцем, Влахернитиссы (Βλαχερνίτισσα), «написанной на греческий манер», оказывалось поднятым, «как бы оживленное дыханием Духа, и оставалось подвешенным, полностью открывая Святой Образ»[128]. Толпы, естественно, стекались сюда, чтобы увидеть это чудо. Завеса опускалась только на следующий день, «в девятый час»[129].
Византийцы, простые люди, жадные до чудес и всего, что с ними связано, не подозревали, что чудо могло быть подстроено. Этот ритуал появился после 1031 года, то есть после обретения трехсотлетнего образа Богоматери с Младенцем, пережившего иконоборческий кризис[130]. Почитание Богородицы, Θεοτόκος, всегда было очень велико. Какое-то время она даже изображалась на монетах императоров Востока. Но незадолго до прихода крестоносцев (или тогда же) ритуал исчез[131]. Вот тогда-то, кажется, и пришла ему на смену мистификация с поднимающимся в воздух синдонием.
«Пробел в истории»Последнее предложение Робера де Клари, что неудивительно, поразило историков и исследователей: «Никто – ни грек, ни француз – не узнал, что сталось с этим саваном, когда город был взят». В подтверждение его словам синдоний не упоминается в числе реликвий, которые в 1350 году видел во Влахернах Стефан Новгородец, а в 1393 году – другой русский путешественник, дьяк Александр[132][133].
Однако же полтора века спустя, в 1354–1355 годах, Плащаница появляется вновь – в малоизвестной деревушке Лире (Шампань) в 17 км от Труа, принадлежавшей рыцарю Жоффруа де Шарни, супругу дамы Жанны де Вержи и знаменосцу Филиппа VI де Валуа. С этой даты история ее прослеживается без труда вплоть до прибытия в Турин. Таким образом, период с 1204 по 1356 год представляет собой «пробел в истории».
В ноябре 1981 года на Болонском международном конгрессе по Плащанице исследователь дон Паскуале Ринальди сообщил, что обнаружил в архивах церкви Святой Екатерины в Формьелло (Неаполь) некий документ[134] – письмо из Рима, датированное 1 августа 1205 года, в котором сообщалось, что святыня была украдена во время разграбления Константинополя и теперь находится в Афинах. Вот перевод этого послания, адресованного папе Иннокентию III Феодором Ангелом, близким родственником бывшего императора Византии Исаака II Ангела Комнина. Его сводный брат Михаил Ангел основал Эпирское царство, занимавшее небольшую территорию в современной Албании, со столицей в Дурресе – Дурраццо – на берегу Адриатического моря[135]:
«Иннокентию, господину и понтифику старого Рима, Феодор Ангел от имени своего брата Михаила, владыки Эпира, и от своего собственного имени желает многия лета.
В апреле прошлого года, отвлекшись от предполагаемого освобождения Святой земли, армия крестоносцев явилась опустошить город Константин. Во время опустошения сего воины Венеции и Франции предались разграблению священных зданий. Разделяя добычу, венецианцы забрали золото, серебро и слоновую кость, французам же достались мощи святых и самый священный предмет – Плащаница, в которую после смерти и перед Воскресением своим Господь наш Иисус Христос был облечен. Ведомо нам, что предметы эти хранятся ныне в Венеции, Франции и других землях, откуда прибыли грабители, а Плащаница хранится в Афинах.
Все эти реликвии, как священные предметы, не до́лжно увозить. Это противоречит закону земному и божественному. Однако во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего и твоего, хотя и против твоей воли, варвары нашего времени увезли их.
Учение Иисуса Христа, Спасителя нашего, не велит христианам похищать друг у друга святыни. Пусть же у грабителей останется золото и серебро, а святое да вернется к нам.
Посему мой брат и господин всецело доверяется вмешательству твоей власти. Если ты повелишь, святыни будут возвращены. Народ, доверяя тебе, ждет твоих действий, и ты не преминешь внять сему прошению. Брат мой и господин Михаил ждет правосудия Петрова.
В Риме, в августовские календы 1205 года Господня».Латинский оригинал этого прошения, включенный в картулярий Коллесано (Chartularium Culisanense), лист 126, был утрачен в 1943 году при бомбардировках Неаполя. К счастью, один эрудит, бывший некогда профессором философии в Палермо, монсеньор Бенедетто д’Аквисто, архиепископ сицилийского Монреале, снял с него копию в 1859 году и заверил ее подлинность. Медиевист и палеограф Барбара Фрале установила полную достоверность этого текста, развеяв сомнения скептиков[136]. Этвеликио обращение не фальшивка. Казалось, был сделан большой шаг вперед. Плащаница, которую последний раз видел Роберт де Клари, похоже, избежала гибели: ее, судя по всему, украли франкские рыцари.
Виновник напрашивается: Оттон де ла Рош, сын Понса де Рэ, которого Виллардуэн представляет в своем «Завоевании Константинополя» как одного из бургундцев, входивших в состав 6-го боевого корпуса войска крестоносцев. Во время разграбления города 12 апреля 1204 года он ворвался во дворец и во Влахернскую церковь. Легко предположить, что именно он присвоил «саван Господа нашего», тем более что этот честолюбивый и неприятный персонаж позднее участвовал в греческих походах крестоносцев, и ему были вверены земли в Аттике и, возможно, в Беотии, которыми он правил под титулом мегаскира (греч. μεγασκύρ – «великий господин») из Афин, где и обосновался. Все как будто бы совпадает.
Оттон де ла РошДо нас дошло около десяти писем Иннокентия III с 1208 по 1213 год, адресованных Оттону де ла Рошу (nobili Ottoni de Roca, domino Athenarum) по поводу присвоения церковного имущества и «вымогательств, на которые жаловались прелаты Греции». 2 мая 1210 года вождь крестоносцев подписал коллективное соглашение, по которому он и бароны соседнего Фессалоникского королевства отказывались от притязаний на «имущество, доходы и права Церкви». Впоследствии между ним и папством возник конфликт из-за невыполнения обязательств по этому соглашению. Его даже на время отлучали от Церкви[137]. О Плащанице речи не было.
Если верить надписи – к сожалению, спорной, – сохранившейся в замке Ринье, в зависимом от семьи де ла Рош феоде, около 1206 года Оттон де ла Рош отправил реликвию своему отцу Понсу, который передал ее своему двоюродному брату Амедею де Трамеле, архиепископу Безансонскому, и тот вскоре после этого организовал церемонию народного поклонения. В 1349 году Плащаница избежала пожара в соборе Святого Стефана. Именно тогда, как предположил дом Шамар в 1902 году в своем исследовании, Жоффруа де Шарни приобрел ее и поместил в свою коллегиальную церковь в Лире[138].
Это объяснение, единственной целью которого было оправдать подлинность безансонской плащаницы, не имеет под собой никакой исторической основы. На самом деле почитаемая в Безансоне псевдореликвия, которую выставляли напоказ пару раз в год и которую, к сожалению, сегодня мы осмотреть не можем, потому что она была уничтожена, сожжена в 1794 году местными революционерами, появилась в столице бывшего графства Бургундии (Франш-Конте) только в 1523 году. Эта картина на холсте представляла собой стилизованное изображение лицевой стороны Образа[139]. Никто из современных исследователей уже не заблуждается на этот счет. Историк Андреа Николотти пролил свет на эту тему[140].
Основываясь на некой «семейной легенде», якобы существовавшей у потомков предводителя крестоносцев, Антуан Легран, историк, художник и дизайнер (1904–2002), большой почитатель святой Плащаницы, считал, что Оттон де ла Рош вернулся во Францию с подлинной реликвией, спрятанной в багаже, и втайне хранил ее до самой смерти в своей крепости Рэ-сюр-Сон во Франш-Конте, которая в XVII веке была разрушена, а в XVIII веке на ее месте был построен новый замок. В качестве доказательства он приводил хранившуюся здесь резную деревянную шкатулку, размеры которой – 37,5 × 16,5 см – позволяли убрать в нее Плащаницу, сложенную в 48 слоев. Современная этикетка к ней гласит: «Шкатулка XIII века, в которой плащаница Христа, привезенная Оттоном де Рэ в 1206 году после осады Константинополя – 1206 год, хранилась в замке де Рэ». Впоследствии Жанна де Вержи, из потомков де ла Роша, вероятно, передала святыню своему мужу Жоффруа де Шарни.
Эта гипотеза, на первый взгляд привлекательная тем, что устанавливает связь между мегаскиром Афин, незаконно завладевшим реликвией в 1204 году, и семьей рыцаря Жоффруа де Шарни, к сожалению, не ближе к истине, чем предыдущая. Никаких доказательств, что Оттон де ла Рош вернулся во Францию в 1206 году или позднее, нет. Напротив, письмо папы Гонория III свидетельствует о том, что в феврале 1225 года он находился в Афинах. О его смерти в 1234 году мы узнаём из акта, составленного его сыном Оттоном II, который не уточняет место, но логично предположить, что это случилось в Афинах, где жил сам Оттон II.
Кроме того, в 1443 году внучка Жоффруа де Шарни, Маргарита, заявила, что плащаница, принадлежавшая ее деду, была им «завоевана»: следовательно, она не была привезена бабушкой Маргариты по материнской линии Жанной де Вержи.
Что касается знаменитой шкатулки, которая, похоже, изготовлена позднее XIII века, то Жан Ришардо, библиотекарь замка, не знает ни откуда она взялась, ни когда была сюда привезена. В архивах предыдущих владельцев никаких упоминаний о саване, якобы хранившемся здесь, нет[141].
Смирнский следПоль де Гейль, иезуит, который долгое время исследовал Плащаницу с исторической точки зрения, к большому своему изумлению, в 1975 году обнаружил два заявления членов семейства де Шарни: Жоффруа II, сына Жоффруа I, основателя коллегиальной церкви Лире, назвал реликвию «безвозмездным даром» (liberate oblatum) его отцу, а Маргарита де Шарни, дочь Жоффруа II, которую мы цитировали выше, уверяла, что святые пелены были «завоеваны» – слово, истолкованное в современном смысле как военный трофей. Оба выражения, вместе взятые, навели Поля де Гейля на мысль, что это «дар, полученный в результате военной кампании». Однако единственной кампанией Жоффруа I на Востоке был краткий Крестовый поход Умберта II, дофина Вьеннского, в 1345–1346 годах, целью которого было оказать помощь цитадели Смирны, осажденной турками[142]. Двумя годами ранее Гуго Лузиньян, король Кипра, высадился в Анатолии и завоевал Смирну (современный Измир), но вскоре оказался в уязвимом положении перед турецкими войсками. После некоторых колебаний – зная, что дофин Вьеннский не отличается силой духа – папа все-таки назначил его командующим христианской армией.
Участие Жоффруа де Шарни в этой экспедиции (в компании будущего маршала Бусико) кажется вероятным. Так, в своей стихотворной книге о рыцарстве он несколько раз ссылается на свои морские путешествия и сражения в «Романии», то есть в Византийской империи[143].
Получив подкрепление в лице крестоносцев, войска Лузиньяна сумели дать туркам отпор, и 24 июня 1346 года одержали победу. Тогда Жоффруа де Шарни, вероятно, и получил Плащаницу из рук госпитальеров Иерусалима, но по какой причине, нам неизвестно. «Получается, – не без уверенности пишет отец Гейль, – что Плащаница была привезена крестоносцем Лире из похода на Ближний Восток в 1346 году[144]».
Увы, теперь мы знаем, что доблестный рыцарь, служитель Филиппа VI де Валуа, в битве при Смирне не участвовал. К тому времени он уже покинул Восток: акт от 2 августа свидетельствует, что он получил жалованье для своих солдат в Эгийоне (регион Аженуа).
Оттон де ла Рош и ахейский следЕсли мы вернемся к Оттону де ла Рошу и его потомкам, то увидим, что они, прочно обосновавшись в герцогстве Афинском и Фиванском, где им принадлежали огромные территории и где продолжился их род, не были заинтересованы в возвращении в свои скромные владения Ла-Рош-сюр-Л’Оньон во Франш-Конте. Отсюда историк Даниэль Раффар де Бриенн, бывший руководитель Международного центра исследований Туринской плащаницы (CIELT), заключает, что похищенная реликвия «просто-напросто осталась в Афинах», в их руках.
Именно этот след другой исследователь, инженер по образованию, Лоран Бузу проработал в 2015 году в подробном изыскании «Клан ахейцев» (Le Clan des Achaiens)[145]. Рыцари из Шампани, Бургундии и Франш-Конте, участвовавшие в разграблении Константинополя во время Четвертого крестового похода, завоевали регион Фив и Афин, а затем, весной 1205 года, большую часть Ахеи, или Пелопоннеса, или Мореи, где обосновались и построили феодальное общество. Именно эти мужчины и женщины на протяжении нескольких поколений – Жуанвили, Виллардуэны, Бриенны, Шатийоны… – защищали своих вассалов, сеньоров де ла Рош, хранителей святой реликвии.