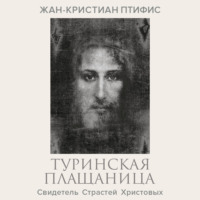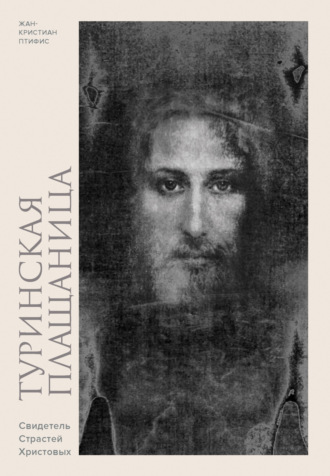
Полная версия
Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых
Лоран Бузу предполагает, что Оттон де ла Рош, ставший благодаря им властителем Афин и превративший Парфенон в собор, спрятал Плащаницу там, а может, в византийском монастыре Дафни, по дороге в Элевсин, а может, во Франкской башне, примыкающей к Пропилеям, в западной части Акрополя, а может, где-то еще.
Оттону де ла Рошу в 1234 году унаследовал его старший сын Ги, затем пришло следующее поколение, Жан и Гийом, и, наконец, сын Гийома Ги II. Несмотря на превратности эпохи – падение Латинской империи, подчинение Ахейского княжества Карлу Анжуйскому, брату Людовика Святого, королю Сицилии и Неаполя, – де ла Роши продолжали, согласно Бузу, пользоваться защитой «клана ахейцев». Когда в 1312 году Афины пали под натиском каталонцев, Жанна де Шатийон, вдова Готье де Бриенна, двоюродного брата Ги II де ла Роша, предположительно покинула город и поселилась в Ахее. Затем она, возможно, доверила реликвию Матильде де Эно, герцогине Афинской, которая была вдовой одного из потомков Оттона де ла Роша по мужской линии. Та могла поместить Плащаницу на хранение в свой мощный донжон в Каламате, на юге Ахеи. В 1316 году бургундские рыцари во главе с молодым Людовиком Бургундским, внуком Людовика Святого, предприняли военную экспедицию в попытке оспорить Морею, которую Людовик унаследовал от своей жены Матильды де Эно, у его соперника инфанта Фернандо Мальоркского, предъявлявшего притязания на эту территорию. Они одержали победу в июле того же года, и Фернандо был обезглавлен.
Среди участников экспедиции был бургундец Жан де Шарни, отец Жоффруа, которому предстояло стать владельцем Плащаницы. Круг замкнулся. Лоран Бузу считает, что, несмотря на очень юный возраст – около тринадцати лет, – Жоффруа сопровождал отца. И тогда, по его теории, Матильда де Эно, которая собиралась отбыть в Италию, решила «преподнести Плащаницу в безвозмездный дар предводителю бургундцев и его сыну – поскольку они были из ее клана, – чтобы они могли забрать ее с собой во Францию». Летом 1317 года, вернувшись из экспедиции, Жан де Шарни спрятал Плащаницу в деревушке Лире в Шампани, где тридцать восемь или тридцать девять лет спустя его сын Жоффруа впервые показал святыню народу. ЧТД.
Эти родственные связи, как мы видим, очень запутанны. К сожалению, ничто не указывает на существование столь сплоченного таинственного клана, который из поколения в поколение «защищал» бы Плащаницу, украденную из Константинополя рыцарем Оттоном де ла Рошем, хоть Лире и правда некоторое недолгое время принадлежал дому де Виллардуэн, а затем перешел к де Жуанвилям. Такое положение вещей ничего не доказывает: эти дома владели рядом феодов, рассыпанных по всей Франции.
Идея, что Плащаница могла почти сорок лет втайне храниться в этом уголке на границе Шампани, где постоянно шныряли банды наемников, особенно в глухой деревне, где не было ни замка, ни укрепленной церкви, а лишь простой насыпной холм с частоколом, как показал местный историк Ален Урсо, противоречит утверждению, что предполагаемый «клан ахейцев» неустанно заботился о безопасности реликвии. Поэтому нам опять придется продолжить поиски в другом месте.
«Бафомет» тамплиеровСогласно теории Йена Уилсона, отсутствие данных о реликвии после разграбления Константинополя можно объяснить тем, что ее быстро приобрел один из самых могущественных рыцарских орденов того времени – орден тамплиеров. Это грозное и вездесущее братство монахов-воинов, контролировавшее основные финансовые потоки христианского мира, перевезло ее на Запад и держало в тайне, понимая огромную ее ценность. Ее хранили в сложенном виде, как в Эдессе, так что виден был только лик, вокруг которого у тамплиеров сложился тайный культ, сопровождавшийся обрядами инициации. И, вероятно, это была та самая «бородатая голова» под названием бафомет, идол, в поклонении которому их обвинили во время суда в 1307 году[146].
В подкрепление своего тезиса Йен Уилсон приводит два аргумента. Первый – деревянная панель с изображением человека, чьи черты лица явно напоминают черты Христа, которая была найдена в деревне Темплкомб в Сомерсете (на юго-западе Англии). Дом, в котором ее нашли, был резиденцией командора тамплиеров. Это изображение, полагает историк, не могло быть ничем иным, как бафометом. Австралиец Рекс Морган предположил, что панель служила крышкой ковчегу, изготовленному во Франции в конце XIII века для хранения Плащаницы[147]. Второй аргумент заключается в том, что один из двух лидеров ордена тамплиеров, которых казнили на костре на Еврейском острове[148] 18 марта 1314 года, был приором Нормандии Жоффруа де Шарне, почти тезкой Жоффруа де Шарни (а вторым был магистр Жак де Моле). Отсюда до мысли, что де Шарне и де Шарни родственники, всего один шаг, который Йен Уилсон сделал с еще большим энтузиазмом, когда нашел некие документы с именем Шарни. Если двое Жоффруа родственники, несложно представить, как сорок два года спустя реликвия оказалась у де Шарни.
Йен Уилсон – замечательный исследователь, который за десятилетия работы значительно способствовал изучению Плащаницы, особенно в том, что касается ее иконографических изображений, и без колебаний отправлялся ради этого в Эдессу и Каппадокию. Его гениальную теорию, отождествляющую туринскую реликвию с византийским Мандилионом, как мы уже говорили, поддержало значительное число авторов. Но все с куда большей осторожностью отнеслись к последней гипотезе, с которой согласились лишь немногие исследователи, например Рекс Морган и Барбара Фрале.
Действительно, этот тезис, как и ахейская теория, лишен основательности и оставляет без ответа целый ряд вопросов. Как могли тамплиеры, которых не было ни в Константинополе 1204 года, ни в Афинах годом позднее, завладеть Плащаницей? Как можно себе представить, что Жоффруа де Шарни, сеньор Лире, стал одним из доверенных людей короля Филиппа VI, если он был родственником такого сомнительного персонажа, как собрат Жака де Моле, признанный отступником? Летописцы не преминули бы указать на эту странность, ведь в те времена позор, запятнавший род, сохранялся порой на протяжении нескольких поколений.
Что же до загадочного бафомета, которому тамплиеры якобы поклонялись вместо Христа, то здесь Йен Уилсон опирался на описание, фигурирующее в одном из обвинений. Согласно ему, изображение напоминало «старую кожу, будто бы полностью забальзамированную и подобную отполированному холсту». Барбара Фрале, в свою очередь, торжествовала, обнаружив один рассказ о посвящении в орден, написанный неким Арно Саббатье, в котором упоминается «длинный кусок полотна, на котором лик мужчины отпечатан был, и сказано: поклониться ему, целуя ноги его трижды». Это свидетельство, безусловно, выглядит смущающе, но не решает дело.
Проблема в том, что от одного допроса к другому описания менялись. В приказе об аресте от 14 сентября 1307 года предполагалось, что это была скульптура «головы человека с длинной бородой», чья шея обвита шнурами. Кто-то из членов ордена, допрошенных под пыткой, говорил, что он большой, кто-то – что может уместиться в кармане. Некоторые описывали его как деревянную скульптуру, другие как костяную или металлическую. По одним данным, это был лев с головой женщины, по другим – человекоподобное существо с кудрявыми волосами. Даже Гуго де Перо, один из высших чинов ордена, представитель магистра на территории Франции, казалось, был не в состоянии точно его описать, заявляя лишь об отвратительнейшем его уродстве. Так кому же верить?
Наконец, тамплиер Жоффруа де Шарне, которого иногда называют Шарни, по-видимому, был родом из Анжу, тогда как у славного знаменосца Филиппа VI вся родня жила в Бургундии. Обратите внимание, что сегодня во Франции насчитывается пять коммун под названием Шарни к северо-западу от линии, соединяющей Мулен и Везуль, и четыре коммуны Шарне к юго-западу от той же линии[149]. Да и сам Йен Уилсон, похоже, отошел от теории тамплиеров, которую выдвинул в 1978 году.
Фальшивая плащаница Робера де КлариПерейдем к некоторым другим необоснованным гипотезам, таким как гипотеза о связи между Плащаницей и святым Граалем, которую предложил американец Дэниел Скавоне[150], или малоправдоподобная гипотеза Пьера Дора о подмене Кадуэнской плащаницы[151].
На самом деле все решения, предложенные в качестве объяснения «пробела в истории» между разграблением Константинополя крестоносцами в 1204 году и появлением Плащаницы в деревне Лире, основаны на единственном свидетельстве – сообщении Робера де Клари об исчезновении савана, выставленного во Влахернской церкви Богоматери. Но уверены ли мы, что речь идет о двойной реликвии из Эдессы, ревностно хранившейся до тех пор в Фаросской дворцовой церкви?
Зациклившись на словах пикардийского рыцаря, впервые рассказавшего о плащанице с полным изображением Иисуса, большинство историков не учитывают элементарное «но»: вопрос безопасности. Разве столь славную, священную императорскую реликвию, которая всегда хранилась в защищенном от света ковчеге и которую практически не извлекали из него, могли выставлять каждую пятницу во Влахернской церкви, в этот период волнений и беспорядков брошенную на милость взбудораженной толпы без какой-либо военной защиты и к тому же расположенную недалеко от городских укреплений? Разве неопытный император, каким был двадцатилетний Алексей IV Ангел, марионетка византийского духовенства, вскоре исчезнувшая с политической сцены (он падет от рук своих злейших врагов), мог так беспечно попрать традиции, нарушить священную тайну, навязав религиозным властям то, что со времен прибытия Эдесского образа в Константинополь не делалось никогда – публичные демонстрации святыни по пятницам? Разве религиозные власти могли без скандала согласиться показать совершенно обнаженное тело распятого с потеками крови, ведь в то время в греческом православном христианстве акцент делался на Воскресении, а не на ужасе Распятия?
Не разделяя всеобщий энтузиазм, некоторые историки и исследователи, в числе которых были Вернер Булст и монсеньор Жак Сюодо, усомнились в подлинности савана. Иезуит Булст считал, что речь идет об образе распятого человека, выставлявшегося на всеобщее обозрение в рамках литургической церемонии[152]. «Робер де Клари, – пишет, в свою очередь, монсеньор Сюодо, автор замечательного труда о Плащанице (2018), – ни в коем случае не связывал плащаницу, выставленную во Влахернской церкви, с Эдесским образом – Мандилионом. Поэтому мы не можем судить с уверенностью о природе плащаницы, увиденной Робером де Клари»[153].
Если вспомнить впечатляющий церемониал, которым сопровождалось поклонение Истинному Кресту при любом его перемещении по городу – его с большой помпой переносил из дворцового комплекса Вуколеон в Святую Софию папия, главный императорский привратник, в сопровождении архонтов и духовенства, служившего при дворце, где реликвию встречали остиарии (привратники), священники, теоры, хартуларии, диаконы, иподиаконы, певчие, скевофилакс (церемониймейстер), горели сотни свечей, облаками клубились благовония и рефреном звучали церковные песнопения, – здравый смысл подсказывает нам, что Влахернский «саван» был лишь одной из реликвий второй или третьей категории, которыми изобиловала столица Византийской империи, к великой радости жадного до чудес простонародья, но в честь которых никто не проводил настолько пышных ритуалов[154].
Кажется вполне возможным, что предводитель крестоносцев Оттон де ла Рош завладел этой псевдореликвией, когда его люди грабили церковь, и увез ее в Афины, считая подлинной плащаницей Христа[155]. Отсюда и письмо Феодора Ангела Иннокентию III от августа 1205 года с требованием вернуть плащаницу, которая, по его словам, находилась в Афинах. Но эта история никоим образом не связана с Эдесским образом и, следовательно, святой Туринской плащаницей[156].
Плащаница остается в КонстантинополеВ хаосе, который предшествовал падению Константинополя, расхищения и грабежи были повсеместны, им предавались и церковники – дьяки, аббаты, епископы. Крестоносцы присвоили множество реликвариев с фрагментами «истинного креста», литургических и алтарных облачений, греческих евангелий, священных сосудов, дароносиц, расшитых золотом ковров, посуды, религиозных украшений, извлеченных из гробниц, и мощей святых, преимущественно западных (святого Стефана, Маманта Кесарийского…). Сам Робер де Клари привез с Востока несколько «сувениров» такого рода и подарил их аббатству Корби.
Однако, если верить Ришару де Жербори, епископу Амьенскому, многие мощи святых в конце концов были возвращены из-за угрозы отлучения. Иннокентий III неоднократно осуждал неправомерное присвоение священных церковных предметов и называл такую дележку «отвратительной вещью». Словом, хотя франки и венецианцы поделили некоторые трофеи между собой, часть была возвращена новому императору Константинополя Балдуину I, бывшему графу Фландрии и Эно, и, следовательно, вернулась в императорскую сокровищницу, присоединившись к славным реликвиям, которые уцелели после разграбления Фаросской церкви. Несколько лет спустя, в 1215 году, IV Латеранский собор в правиле 62 осудил кражу реликвий и торговлю ими.
С утверждением латинской династии в Константинополе Николай Месарит лишился поста хранителя реликвий. Однако не сидел сложа руки. Он участвовал в переговорах с папским легатом о восстановлении единства православной и католической церквей. Затем, осознав бесперспективность сего предприятия, организовал сопротивление восточного духовенства Томаззо Морозини, первому латинскому патриарху города.
17 марта 1207 года Месарит произнес панегирик в честь своего брата Иоанна, монаха, помогавшего ему в этой борьбе. Он вернулся к теме сравнения Иерусалима и Константинополя, которая ранее прозвучала в его речи, обращенной к бунтовщикам 1201 года: «Христос был „ведом в Иудее“ (Пс. 75: 2), но Он не далек от нас. Там [есть] гроб Господень, но пелены и плащаницы дошли до нас. Лобное место там, а крест и опора для ног здесь. Мы представляем [здесь же] венец, сплетенный из ветвей терновых, губку, копие и стебель тростника. Нужно ли мне перечислять многое? Неописуемое, проявленное, „по виду став как человек“ (Флп. 2: 7), подобно нам, описуемо, запечатлено, как в прообразе, на плате и на хрупкой глине, точно искусством рисования, которое не утомляет руку»[157].
Очевидно, что, если бы терновый венец, копье, плащаница, сударь, Мандилион (плат) и Керамион (хрупкая глина) исчезли три года назад, бывший хранитель дворца Вуколеон воздержался бы от такого патетического уподобления своего города Иерусалиму в отношении реликвий! Он уже не восторгался бы так божественным присутствием в его любимом Константинополе, к сожалению, столь сильно пострадавшем. Пусть даже он больше не занимал поста при новом дворе, у него было достаточно возможностей, чтобы знать о судьбе Плащаницы. Однако он ни разу не упоминал ни о ее присутствии, ни о ее выставлении во Влахернах незадолго до падения города, ни о ее похищении франками.
Другим человеком, сыгравшим роль толмача в спорах между греками и латинянами в 1204–1207 годах, был Николай Отрантский, настоятель греческого монастыря в Казоле. Однако из его рассказа следует, что большая часть Фаросских реликвий, разграбленных крестоносцами, впоследствии вернулась на свое обычное место хранения: когда франки, писал он, «ворвались разбойниками в хранилища Большого дворца, где находились священные [предметы], то есть Истинный Крест, терновый венец, сандалии Спасителя, гвоздь и пелены [σπάργανα], которые и мы сами видели воочию позднее, и другие предметы нашли там, о милостивый Господи»[158].
Возможно, для нас было бы яснее, если бы Николай Отрантский после слова σπάργανα (пелена) во множественном числе поставил прилагательное ἐντάφια (могильные), поскольку во Влахернской церкви поклонялись также и пеленам Младенца Иисуса, но здесь речь идет о реликвиях Страстей Христовых, хранившихся в прилегающей к Вуколеону Фаросской дворцовой церкви. Никакого разночтения быть не может: Николай Отрантский видел Плащаницу после разграбления города, вероятно, в императорском дворце, куда он имел доступ, будучи переводчиком с греческого.
Итак, будущую Туринскую плащаницу не увезли латинские крестоносцы в 1204 году. Она осталась в Константинополе. Вопрос в том, когда и при каких обстоятельствах она была перевезена во Францию.
Глава V
Плащаница в Святой капелле
Латинская империя на грани крахаЛатинская империя, которая принесла в Византию западную цивилизацию с ее феодальной системой и раздробленностью, была нежизнеспособным образованием, обреченным на гибель. По соглашению, заключенному в 1202 году с венецианскими заимодателями, крестоносцы должны были передать им более трети завоеванных земель и несколько островов, включая Крит, в безраздельное владение, а также предоставить многочисленные торговые привилегии. Кроме того, было решено, что патриархат перейдет к прелату Светлейшей республики, иподиакону Томаззо Морозини.
Часть территорий присвоили себе франкские сеньоры, основав католические государства, теоретически подвассальные Константинополю: Фессалоникское королевство, Афинское герцогство, княжество Ахейское, или Морейское. Герцогство Наксос (вместе с Кикладами) отошло к племяннику дожа Дандоло. Такая раздробленность сама по себе была первым признаком распада.
Империя в строгом смысле слова, сжавшаяся до нескольких клочков земли по обе стороны Босфора, столкнулась с враждебным отношением греческого духовенства и вынуждена была воевать со своими соседями, болгарами и валахами, и их половецкими (тюркоязычными) союзниками, пришедшими на помощь разоренным и угнетаемым византийским элитам.
14 апреля 1205 года франки потерпели поражение при Адрианополе[159]. Первый латинский император Балдуин I был захвачен в плен, где и умер. Его преемникам не хватило ни времени, ни возможностей восстановить порядок. На смену Генриху Фландрскому, Пьеру II и Роберту де Куртене пришел одиннадцатилетний Балдуин II, сын Пьера II, регентом при котором стал Иоанн де Бриенн… Латинскому государству, оказавшемуся на грани гибели, угрожало банкротство. Укрепившись в Никее, греки начали отвоевывать утраченные владения, и в итоге в июле 1261 года один из их императоров, Михаил VIII Палеолог, вернулся в Константинополь, чтобы восстановить Византийскую империю, и был коронован в соборе Святой Софии.
В этот короткий период власти крестоносцев (1204–1261) единственной ценностью, остававшейся в руках их недолговечных государей, была сокровищница церкви Богоматери Фаросской, бдительно охраняемая вооруженной стражей. Рассчитывая получить помощь Запада, Балдуин I и Генрих I начали раздавать некоторые реликвии из нее. В 1238 году Балдуин II, которому тогда был двадцать один год, загнанный в угол кредиторами, отправился во Францию, где предложил Людовику IX терновый венец, который считал жемчужиной своей коллекции.
Восхищенный реликвией, Людовик Святой охотно принял это предложение и поручил двум своим младшим братьям привезти ее ему. Поскольку венец был заложен богатому венецианскому купцу, король выплатил тому колоссальную сумму: 135 000 турнуа. Официально речь шла не о покупке, ведь торговля реликвиями была по-прежнему запрещена Церковью, а об обмене: святой венец в счет погашения долга.
В феврале 1239 года операция была проведена, и славная реликвия покинула Венецию. Людовик IX направился в Вильнев-л’Аршевек, город неподалеку от Санса, метрополии, которой в то время подчинялось парижское епископство, и 10 августа реликварий из чистого золота оказался у него в руках. На следующий день босой, облаченный в простую тунику, в сопровождении своей матери, трех своих братьев – Роберта д’Артуа, Альфонса де Пуатье и Шарля Анжуйского – архиепископа Санского Готье Корню и множества рыцарей, Людовик перенес этот ковчег на собственных плечах в собор, с триумфом проследовав через украшенный флагами город.
Эта исполненная смирения сцена повторилась 19 августа, когда после прибытия в Венсен венец перенесли с процессией в собор Парижской Богоматери, а затем в часовню Святого Николая на территории королевского дворца на острове Сите.
Набожный правитель, понимая, что Господь оказал ему невероятную милость, сулившую королевству славу и могущество, решил возвести на месте этого скромного святилища будущую Святую капеллу. Подобно Константину VII Багрянородному в Константинополе, он намеревался сделать свою прекрасную Францию новой Святой землей, а ее столицу – новым Иерусалимом и продолжить духовную традицию Фаросской дворцовой церкви.
В последующие годы Балдуин II, которому по-прежнему не хватало средств, продал еще два «комплекта» святынь, то есть почти все, что осталось от его сокровищницы. В первый, прибывший в Париж 30 сентября 1241 года под предводительством шевалье Ги, вошла, в частности, частица Креста Господня, которой с такой помпой поклонялись на берегах Босфора до разграбления 1204 года. Второй оказался в столице 3 или 4 августа 1242 года.
Весной 1247 года бедный латинский государь вернулся во Францию выпрашивать новые субсидии. По этому случаю в замке Сен-Жермен-ан-Ле был составлен акт, скрепленный золотой буллой на шелковых, малинового цвета шнурах, с перечнем из 22 реликвий, переданных Франции[160]. Среди них были пелены Младенца Иисуса, молоко Богоматери, ткань для омовения ног, стебель тростника, который вручили Иисусу как позорный скипетр во время бичевания, губка, которую дал ему римский солдат при Распятии, частица копья, пронзившего Его бок, и, наконец, погребальные пелены… Подлинные и поддельные реликвии смешались, как и прежде в Фаросской церкви.
Чтобы выставить их в хоре Святой капеллы, Людовик заказал большую раку, которая, к сожалению, во время революции была расплавлена, и сегодня от нее остался только огромный балдахин, залитый чудесным радужным светом от витражей. Великолепное место – увы, оставленное Благодатью.
Sanctam ToellamВ этом списке внимание синдонологов привлекли два пункта: во-первых, номер 8, а именно загадочная реликвия без этикетки, с неизвестным происхождением и предназначением: Sanctam Toellam, tabulae insertam (Святое полотно, вложенное в ларец[161]), а во-вторых, номер 16, Partem sudarii quo involutum fut corpus ejus in sepulchro (часть плащаницы, в которую тело Его было завернуто в гробнице). Речь идет о небольшом отрезе полотна, который был уничтожен в 1793 году, как и большинство реликвий Большой раки[162]. Однако один фрагмент все же сохранился: он был подарен Людовиком IX Толедскому собору и хранится там до сих пор. Анализ текстуры ткани показал, что фрагмент не имеет ничего общего ни со Святой Плащаницей, ни с суда́́рем из Овьедо[163]. Возможно, это кусок другого погребального полотна, того, которое постелили непосредственно на камень, а может, это вообще подделка.
В отличие от него № 8, Sanctam Toellam, идеально соответствует нынешней Туринской плащанице. Именно сравнение ряда элементов, как пишет отец Дюбарль, дает нам «надежное доказательство»[164]. В описи, составленной за два года до торжественного акта Балдуина II, монах Жерар из аббатства Сен-Кантен-ан-Л’Иль указал эту реликвию как некую tabula, «которой коснулся лик Господа, когда его снимали с креста». Неудачная формулировка: реликвия представляла собой не ларец, а полотно, лежавшее в нем.
Этот ковчег, вероятно, был изготовлен при реставрации, предпринятой в XII веке при династии Комнинов. Размером 60 × 40 см при глубине 5 см, с одной стороны он открывался, похоже, сдвижной крышкой, а с другой – обычной, запирающейся на ключ: на гравюре в книге каноника Жерома Совёра Морана, воспроизводящей предметы Большой раки в 1790 году, можно увидеть два маленьких запора. По всей очевидности, в нем было два отделения для двух реликвий: в одном – богато украшенный, со знаменитым ромбовидным узором в обрамлении, закрепленный плат с образом Христа, Мандилион (на Западе его ошибочно будут называть «платом Вероники», или просто «Вероникой»[165]), а под сдвижной крышкой – большое сложенное полотно «без этикетки», Sanctam Toellam, наша Плащаница. «Этот тип „неглубоких, квадратных или прямоугольных ларцов, оснащенных сдвижными крышками, которые фиксируются запором“, – отмечает Жанник Дюран, бывший главный куратор отдела предметов искусства Лувра, – произошел от плоских ставротек, предназначенных для хранения креста, ниша в которых повторяла очертания реликвии. Так выглядел, разумеется, и реликварий Креста Господня. Византийцы использовали эту практичную модель и для других реликвий, по этой схеме были спроектированы реликварии Вероники и Камня помазания. Благодаря кольцам, которые часто можно увидеть на ставротеках, эти довольно-таки массивные ковчеги могли быть подвешены; кстати, Робер де Клари видел «Веронику», выставленную таким образом в часовне Вуколеона[166]. В запасниках Лувра хранятся две панели реликвария Камня помазания.
Ларец со святым полотном соответствовал размерам Плащаницы, сложенной вдвое по ширине и втрое по длине: 54 × 28 см при толщине около 2 см[167]. Следовательно, у нас есть все основания предполагать, что это реликварий константинопольской Плащаницы и Мандилиона.