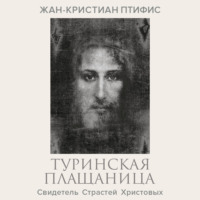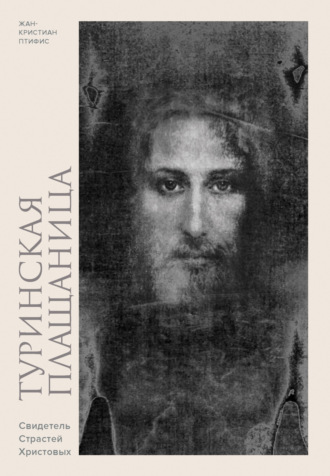
Полная версия
Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых
Изучая эту осаду, историки нимало не склонны поверить в такое развитие событий. Им кажется более убедительным рассказ Прокопия Кесарийского, бывшего секретаря византийского военачальника Велизария, почти современника событий, который в своей книге «Война с персами» приписывает победу ожесточенному сопротивлению осажденных и уплате существенного выкупа в обмен на письменное обещание больше не нападать на город. Если бы Прокопий, описывавший военные подробности с впечатляющей точностью и, конечно, знавший легенду о царе Авгаре, слышал о том, что божественный Образ сыграл здесь какую-то роль, он бы не преминул об этом рассказать. Чудес он не отвергал. Так, в другом эпизоде он пишет, что во время осады Апамеи Хосровом кусок Животворящего Креста, который воздел над головой местный епископ, был окружен сияющим ореолом, что укрепило мужество горожан и помогло им противостоять захватчику. «Бог спас Апамею», – писал он[58].
Ну а камулианский Образ, странным образом передавший свои чудесные свойства оригиналу из Эдессы, исчез: то ли во время византийских военных походов, то ли несколько позже, во время иконоборческого кризиса, о чем глубоко сожалели византийцы.
Деяния ФаддеяВ 609 году город все-таки оказался под властью персидского шаха Хосрова II, вероятно, благодаря пособничеству эдесских монофизитов, которые не принимали халкидонское христианство[59], официальную религию Византийской империи. Церкви систематически разграбляли, золото и серебро отправляли в Персию. Но в 618 году Ираклий отвоевал Эдессу. Миф о защите города Образом к этому времени, естественно, потерпел крах. В 629 или 630 году был написан новый текст, «Деяния Фаддея», в котором, в отличие от «Учения Аддая», говорилось не о портрете, написанном Ананией: утверждалось, что это божественное, а не человеческое произведение. Иисус, видя, что Анании не удается уловить его черты, попросил поднести ему воду, чтобы умыться. Ему дали сложенный вчетверо отрез ткани (тетрадиплон), которым он утерся. Когда Анания прибыл в Эдессу, Абгар «пал ниц и поклонился Образу», и тотчас же излечился от болезни. А Фаддей пришел в город после Вознесения и за пять лет основал христианскую общину Осроены.
В отличие от Йена Уилсона, который видит в этом отрывке подтверждение своего тезиса о лике, демонстрировавшемся через круглое оконце реликвария, использование слова тетрадиплон в «Деяниях Фаддея», вероятно, не имело иной цели, кроме как примирить легенду о маленьком плате, которым утер лицо Иисус, с существованием большой Плащаницы[60].
Эдесса претерпевала множество невзгод в связи с приходом из аравийских пустынь новой мусульманской религии, стремившейся утвердиться через насилие и завоевания. В 638 году халиф Умар ибн аль-Хаттаб, сподвижник Мухаммеда, захватил город, постепенно исламизировал его и сделал официальным языком арабский. Тем не менее он был снисходителен к присутствию христиан и притоку паломников, желавших поклониться Образу, – до такой степени, что несторианский епископ того времени Мар Ишуйя радовался, видя в своем городе «святое место, избранное Богом всемогущим среди всех стран мира… чтобы служить престолом для Образа Его славного лика и Его воплощения»[61].
К несчастью, 3 апреля 679 года, на Пасху, в Эдессе, расположенной на Северо-Анатолийском разломе, произошло сильное землетрясение, в результате которого некоторые здания обрушились, а Софийский собор был сильно поврежден. Как это случится еще не раз в истории, Плащаница чудом уцелела[62]. Старый омейядский халиф Муавия I приказал восстановить обвалившиеся участки стен и воспользовался возможностью обложить верующих высокими налогами, что стало прелюдией к подушной подати, которая в скором времени будет введена для зимми (немусульманского населения исламских стран)[63].
Иконоборческий спорНесколько десятилетий спустя в период правления Льва III Исавра (717–741) в Константинополе разгорелся иконоборческий спор (726–843), подготовленный долгими дискуссиями о месте изображений в христианском богослужении. Истолковывая буквально библейский запрет на создание человеческих портретов, басилевс (император) в 726 году распорядился о систематическом уничтожении всех религиозных изображений – как Христа и Богоматери, так и святых. Патриарх Константинопольский Герман I выразил официальный протест. Он был немедленно отстранен. Люди принялись ожесточенно ломать и сжигать иконы, фрески, распятия.
Ответом на эту варварскую ярость и попыткой узаконить почитание святых образов стала религиозная литература, приводящая «безукоризненные» примеры, угодные Господу, среди которых были портрет Богородицы, написанный, по очень древнему поверью, апостолом Лукой, статуя Девы Марии из Лидды, или Диосполиса (современный Лод, Израиль) и, разумеется, нерукотворный Образ из Эдессы.
Герман I в своем послании Льву III тоже упомянул эту священную реликвию, «нерукотворную, творящую удивительные чудеса. Сам Господь, запечатлев в сударе[64] след своего образа, послал [образ], сохраняющий облик его человеческого воплощения, через апостола Фаддея к Авгарю, топарху города эдессийцев, и он излечил его болезнь». Патриарх говорил о «человеческом воплощении», не просто об изображении лица: уж не знал ли он о существовании большого полотна, которое никому не показывали?[65] Преподобный Иоанн Дамаскин, напротив, придерживался версии об иконе Святого Лика, вошедшей в легенду о царе Авгаре. В своем первом «Слове о поклонении святым иконам», датированном 726 годом, он говорил о полотенце, или убрусе, на котором Иисус изобразил «свое подобие»[66].
Тридцать восемь лет спустя Иоанн Иерусалимский, синкелл (секретарь) антиохийского патриарха, использовал те же доводы для опровержения иконоборческого собора в Иерии. «Сам Христос, – писал он, – изготовил Образ, тот, что называется нерукотворным. И Образ этот существует по сей день; ему поклоняются, и ни один здравомыслящий человек не скажет, что это идол. Ибо если бы Бог знал, что он будет поводом для идолопоклонничества, то не оставил бы его на земле»[67].
Папа римский Стефан III повторил то же самое на Латеранском соборе 769 года, как и патриарх Никифор I, известный как Исповедник, свергнутый в 815 году за решительную борьбу с возрождением иконоборчества.
Никейский собор 787 года окончательно реабилитировал религиозные изображения. Это ключевой момент в истории христианства и всей человеческой цивилизации, с окончательным отказом от одной из форм обскурантизма и реабилитацией сакрального в искусстве как незаменимого свидетельства Воплощения и «преображения мира сего»[68]. Была не просто признана возможность изображать Христа, воплощенный Логос: почитание Его Образа отныне поощрялось. Можно сказать, что Плащаница, хранящаяся сегодня в Турине, способствовала этому важнейшему сдвигу в менталитете.
На этом же соборе чтец Константинопольской церкви по имени Лев выступил свидетелем: «Прибыв в Сирию с императорскими апокрисиариями [послами], я останавливался в Эдессе и видел святой Образ, нерукотворенный, чтимый верующими»[69].
Зримый образ Христа вполне естественно подводил верующих к незримой реальности Его божественной сущности. Следовательно, в живописных изображениях не было ничего предосудительного. В 836 году патриархи Иерусалима, Александрии и Антиохии еще протестовали против возобновления иконоборчества в синодальном послании, адресованном императору Феофилу: «Он Сам, Спаситель и Творец всего сущего, когда еще жил на земле, запечатлел святой облик Свой на сударии; Он послал его некоему Авгарю, топарху великого города эдессийцев, через Фаддея, апостола, наделенного божественным словом; Он отер божественный пот лица Своего и оставил на нем Свои черты. До сих пор знаменитый и славный город эдессийцев гордится и хвалится тем, что обладает этим отпечатком, как царским скипетром. Христос, истинный Бог наш, даровавший ему эту милость, совершает чудеса среди людей»[70].
Объяснение появления Образа на плащанице по́том было новым и более близким к действительности.
Став мусульманским городом, Эдесса избежала кризиса, бушевавшего в Византийской империи. Однако указом халифа Язида II, основанным на запрете в исламе любых иконографических изображений, включая животных, в 721 году была установлена иконоборческая политика, которая, впрочем, довольно слабо применялась на территориях, находящихся под суверенитетом халифата.
Что же касается Эдесского образа, то один из наиболее интересных текстов этого периода, в котором он упоминался, это текст некоего Смиры, архиатра[71] византийского императора, известный по нескольким более поздним рукописям, одна из которых хранится в Национальной библиотеке Франции, а другая включена в Codex Vossianus Latinus Q69 из библиотеки Лейденского университета.
Смира подчеркивал, что Эдесский образ был изображением не только лица Христова, но и всего Его тела. «Раз желаешь ты узреть мой телесный облик, – говорил, по легенде, Иисус Авгарю, – посылаю тебе это полотно, на котором ты сможешь увидеть не только черты лица Моего, но все тело Мое, божественно запечатленное». И, продолжал Смира, Он «растянулся во весь рост на белом как снег полотне и, неслыханное дело, волей Божией славные черты лика Господня и вся благородная стать тела его отпечатались на нем»[72].
Это предание в том или ином виде встречается и в более поздних текстах, таких как «Церковная история» Ордерика Виталя, англо-нормандского бенедиктинца из аббатства Сент-Эвру (ок. 1140), или «Императорские досуги» (Otia Imperialia), сборник, составленный для императора Оттона IV каноником Гервасием Тильберийским (ок. 1212)[73].
История Эдесского образаПоследняя реинкарнация легенды о царе Авгаре находит свое развитие в «Истории Эдесского образа», написанной в 945 году в Константинополе под именем императора Константина VII Багрянородного, но, по всей вероятности, принадлежавшей перу придворного писца (отсюда его имя, Псевдо-Константин). Новый текст, несколько копий которого хранятся в Париже, Вене, Риме, Испании и в монастырях Афона, представляет собой компиляцию нескольких докладов, дополненную «тщательным опросом» паломников из Сирии. К этому времени святыня уже год как была перенесена в столицу империи.
Эта история, сдобренная множеством деталей и украшательств, включала в себя последние дополнения к легенде. Зная, что Анания (а не Фаддей) получил от своего господина приказ принести ему портрет «его лика», Иисус умылся водой и утерся полотном, на котором тотчас же обнаружился Его «божественным и невыразимым образом» запечатленный портрет.
По дороге назад, остановившись на ночлег возле Иераполиса[74], путешественник спрятал святыню за грудой черепицы. Около полуночи над ней поднялось светящееся пламя и вскоре охватило весь город. Тогда несколько жителей схватили Ананию, сочтя виновным в этом странном пожаре. Ему пришлось признаться, что он спрятал за черепицей сверток. Собеседники Анании, приблизившись к этому месту, обнаружили «божественный Образ» и его репродукцию, проявившуюся на одной из плиток черепицы. Потрясенные горожане сохранили ее. Здесь мы видим один из странных мотивов, появляющихся в преданиях христианского Востока, – способность к копированию при контакте с предметом, которой уже был наделен ранее камулианский образ.
«Существует, однако, и другая версия, отнюдь не невероятная, – отмечал Псевдо-Константин, – в пользу которой свидетельствуют достойные доверия люди». Согласно ей, Иисус отпечатал свой лик на ткани не во время омовения после одной из проповедей, а в Гефсиманском саду, когда по лицу его струился пот, стекавший, «как капли крови». «Тотчас же, – продолжает повествование, – отпечаток божественного лика был проявлен, как видно и поныне. Иисус передал полотно Фоме, посоветовав ему отправить его Абгару с Фаддеем после Его вознесения, чтобы обещанное им в письме свершилось».
Прежде чем явиться к Абгару, Фаддей «поместил портрет на лоб свой, как отличительный знак… Абгар увидел его издалека, и почудилось ему, что видит он свет, невыносимый для глаза человеческого, исходящий от его лица». Царь взял портрет, почтительно возложил его на голову, затем приложил к губам и ко всем частям тела. Он сразу почувствовал, что исцелился. А когда внимательно рассмотрел изображение, то обнаружил, что оно «не состоит из земных красок». Апостол объяснил ему, что оно получено с помощью «пота, а не красителей».
Затем Абгар принял крещение, и вместе с ним крестилась вся его семья, почитая «портрет телесного облика Господня». Статую греческого бога, воздвигнутую перед западными воротами города, которой посетители были вынуждены поклоняться раньше, он приказал уничтожить. На его месте он выставил нерукотворный Образ, «прикрепил его к доске и украсил тем золотом, которое мы видим теперь, написав на этом золоте следующие слова: «Христос Бог, уповающий на Тебя, никогда не остается разочарован».
Спрятанный и вновь обретенный ОбразК сожалению, продолжает рассказчик, потомки Абгара снова вернулись к язычеству. Узнав о намерении нового царя уничтожить Образ, местный епископ спрятал его в цилиндрическом углублении над входом, затем «зажег перед Образом лампаду и прикрыл сверху кирпичом». Наконец «он замазал доступ раствором, закрыл обожженным кирпичом и выровнял стену».
К 544 году, когда Хосров I осадил Эдессу, воспоминания об Образе полностью изгладились из памяти людей. Как-то ночью епископу по имени Евлалий[75] явилась женщина, «облаченная в красивые одежды». Она посоветовала ему вынести из тайника «богосотворенный Образ Христа» и умолить Господа «совершить полное проявление Его чудес». Прелат сказал ей, что не понимает, о чем речь, и тогда видение показало ему место, где была спрятана реликвия. Епископ отправился туда и нашел святой Образ и лампаду перед ним целыми и невредимыми, причем лампада по прошествии столетий по-прежнему горела. А на куске кирпича, которым был прикрыт глиняный светильник, отпечаталась репродукция Образа. Жители города вылили масло из негасимой лампады и «окропили им персов, находившихся внутри подземного хода». Когда Евлалий прошел через город со святыней, поднялся сильный ветер и перенес пламя на последних осаждающих[76].
Какой же вывод мы можем сделать, ознакомившись с последней версией этого предания? Интерпретация появления Образа – из пота Христа в Гефсиманском саду – показывает, что в то время, то есть около 630 года, Плащаница еще не была признана таковой, оставаясь частью легенды о царе Авгаре.
Удивительно видеть, что многие историки приняли перегруженный деталями текст за чистую монету, пусть даже отбросив самые причудливые аспекты этой восточной сказки (вроде свечи, которая веками горит перед Образом), и пришли к тем же заключениям, что и Йен Уилсон.
История обращения Абгара V, его переписки с Иисусом и прибытия Плащаницы в Эдессу в 33 году н. э. не выдерживает исторической критики. Как мы уже говорили, этот миф зародился лишь около 262 года, а сама Плащаница оказалась в Эдессе приблизительно в 387–388 году. Да и разве можно вообразить, что первые апостолы согласились бы расстаться со столь необыкновенной реликвией, покрытой драгоценной кровью Иисуса, свидетельницей его Воскресения, передав ее какому-то языческому царьку с севера Месопотамии?
Столь же немыслимо и то, что Плащаница почти сразу же была спрятана в городских воротах Эдессы на протяжении почти пятисот лет и вновь обнаружилась лишь в первой половине VI века. Можем ли мы представить, в каком состоянии оказалась бы ткань, запертая за влажной и соленой стеной, в замкнутой атмосфере? Плесень, сухая гниль и другие деревоядные грибы поглотили бы целлюлозу льна. Без сомнения, из некоторых египетских гробниц были эксгумированы погребальные полотна в довольно хорошем состоянии благодаря благоприятным климатическим условиям, которых нет в дождливые зимы в этом городе, построенном на великой равнине юго-восточной Анатолии.
Если бы реликвия была случайно обнаружена в 525 году во время наводнения, как считает Йен Уилсон, о ней непременно упомянул бы Прокопий Кесарийский, очень надежный рассказчик, долго распространявшийся об этой катастрофе. Как сохранить в тайне столь исключительное событие? То же самое можно сказать и в отношении предполагаемого повторного открытия во время осады 544 года: отсутствие информации у Прокопия достаточно красноречиво. Нет решительно никаких оснований полагать, что драгоценное полотно было замуровано в нише над входом или в крепостной стене, а затем вновь обретено в VI веке.
Учитывая все сказанное, отметим, однако, что Псевдо-Константин хорошо передал последние изменения в этой многоликой легенде, которая с давних пор очаровывала христиан Востока. Так, в Иераполисе действительно находилась реликвия под названием Керамион (κεράμιον, «глиняный»), черепица, на которой таинственным образом был запечатлен лик Иисуса.
Глава III
В Константинополе
Война за святой ОбразК осени 942 года неоднократные нападения византийцев, непрекращающиеся религиозные столкновения между шиитами и суннитами и появление таких амбициозных местных династий, как Хамданиды, привели к сильному ослаблению мусульманской империи Аббасидов. Именно тогда восьмидесятитысячная восточно-христианская армия под началом полководца Иоанна Куркуаса предприняла масштабное вторжение в Армению и Северную Месопотамию, опустошая деревни, захватывая тысячи пленных и сея панику в халифате, и без того погрузившемся в анархию.
И вот совершенно неожиданно, вместо того чтобы двинуться к столице, Багдаду, гигантскому мегаполису с почти миллионным населением, путь к которому был уже свободен, этот новый Велизарий вышел из долины Тигра и осадил расположенную к западу от столицы Эдессу. Местный эмир, который не мог рассчитывать на помощь извне, получил от Куркуаса поразительное предложение от имени императора Романа I Лакапина: Византия пощадит его город, освободит двести высокопоставленных мусульманских пленников и выплатит солидную сумму – 12 000 серебряных денариев – при единственном условии: он отдаст Образ Господень, который хранился в соборе Эдессы со времен Юстиниана.
Неслыханное предложение за кусок полотна! Да еще и тогда, когда вся Месопотамия, казалось, вот-вот упадет, как спелый плод, в руки славной Византии! Разве мог эмир устоять? Однако у него нашлось одно серьезное возражение: а что, если христианское меньшинство Эдессы взбунтуется и выступит против переноса их любимой святыни в Константинополь?
Здравый смысл велел ему испросить совета эмира эмиров, халифа аль-Муттаки, который уже три года правил в Багдаде. А тот, в свою очередь, созвал кади и улемов, знатоков и хранителей мусульманской традиции. Хотя Мандил («Полотенце») в их глазах не имел никакой ценности, большинство советников сошлись на том, чтобы не отдавать его неверным, раз уже те придают ему такое духовное значение. Однако бывший визирь Аббасидов Али ибн Иса аль-Джаррах, уважаемый всеми мудрец восьмидесяти четырех лет, возразил, что освобождение пленных мусульман следует ставить прежде любых других соображений. Так и было решено – при дополнительном условии, что Эдесса и еще четыре близлежащих города получат неприкосновенность и византийцы не будут их атаковать или грабить, на что Куркуас охотно согласился. Главное было получить Образ быстро и без кровопролития.
Чтобы убедиться в подлинности реликвии, Роман Лакапин отправил в Эдессу делегацию знатоков во главе с Аврамием, епископом Самосатским, и те, проведя расследование, решили доставить в Константинополь не только оригинал (легко опознанный), но и две его репродукции, одна из которых висела в несторианской церкви. И заодно прихватили копию письма Иисуса к царю Авгарю.
Эмиру пришлось проявить хитрость и твердость, чтобы убедить христиан отдать столь ценную для них икону. Эскорт, сопровождаемый отрядами Куркуаса в качестве охраны, пересек Анатолию, переправился через Босфор и прибыл в Константинополь 15 августа 944 года, на Успение Пресвятой Богородицы.
Константинополь, основанный Константином Великим в 330 году на месте древнего Византия, стал самым густонаселенным мегаполисом Европы, Царьградом, имперским Новым Римом, торговым перекрестком с множеством складов и товаров, конечным пунктом Шелкового пути и столицей восточного христианства с дворцами, церквями и бесчисленными святилищами, что соседствуют с кварталами простонародья, где в тесных, неблагоустроенных жилищах ютятся живописные толпы в пестрых одеждах и воздух пропитан резкими и пряными ароматами Востока.
Перенос Образа в КонстантинопольИтак, вечером 15 августа, переправившись через Золотой Рог, нерукотворная святыня с большой помпой была доставлена в Большой Влахернский дворец, расположенный в северной части города, недалеко от Феодосиевых стен. Старый Роман Лакапин, который присвоил себе власть и титул басилевса, два его сына, Стефан и Константин, претенденты на престол, и зять, Константин VII Багрянородный[77], соправитель Романа, тонкий и высокоэрудированный человек, хорошо разбиравшийся в искусстве, но мало смысливший в политике, встретили ее с великой радостью в верхнем оратории прилегающей к дворцу церкви Богоматери, где клубился дым от свечей и ладана, которые и в те времена играли важную роль в восточнохристианской литургии. Затем после краткого, но усердного богослужения драгоценный ковчег перенесли на изящную императорскую триеру, освещенную факелами и лампадами. Та, повинуясь размеренным движениям гребцов, проследовала вдоль берега Золотого Рога и западного побережья Босфора к дворцу Вуколеон, расположенному на юго-востоке города в нескольких километрах отсюда. На ночь ковчег поместили в дворцовую церковь Богоматери Фаросской.
На следующий день, 16-го числа, святыню вынесли из храма под пение гимнов и псалмов, в сопровождении сыновей басилевса и его зятя. Она снова пустилась в плавание на императорской галере и достигла юго-восточного предела Феодосиевых стен, где ее уже ожидал молодой патриарх Феофилакт, оскопленный сын императора, и лучшие из сенаторов. Ее торжественно внесли в город через Золотые ворота, великолепную арку, сложенную из блоков полированного белого мрамора методом сухой кладки[78], – через них входили в Константинополь византийские правители по случаю коронации или военных побед. Жители города встретили Образ более чем восторженно. Подобного скопления народа давно не видывали – с тех пор как Образ покинул Эдессу, он совершил, как говорили, немало чудес и исцелений.
Так золотой, украшенный эмалью ковчег пересек город и оказался в соборе Святой Софии, где в присутствии императоров, придворных и духовенства святыне могли поклониться верующие; все это время реликварий не открывали – его содержимое было сочтено слишком ценным, чтобы демонстрировать народу. Архидиакон Григорий произнес проповедь. После этого ковчег снова отправился в путь – к архитектурному комплексу Большого дворца. Через монументальные ворота Халки его внесли в отделанный золотом императорский зал аудиенций, хрисотриклиний[79], и возложили на трон. Этим символическим жестом показывалось, что сам Христос, басилевс небесный, правящий Вселенной, воссев на престол, передает свою святость басилевсу земному, «служителю и наместнику Божию». Что за торжество! Что за роскошный прием! Что за литургические почести по отношению к куску полотна! Апофеоз!
Икона и реликвияНо что же именно было заключено в вычурный ларец, отделанный драгоценными камнями? Выяснить это нам помогут несколько документов. Сначала обратимся к иконографии, она особенно показательна. На одной из 577 миниатюр, иллюстрирующих мадридскую летопись византийского историка Иоанна Скилицы (XII век)[80], изображено вручение Образа Роману Лакапину. Басилевс прикладывается к голове Христа на белой салфетке, натянутой на жесткую раму с красной бахромой. Подносящий не прикасается к самой реликвии, она защищена розоватой тканью. Действительно, существовала такая литургическая практика: между человеческими руками и святыней должно быть полотно. Но здесь ткань кажется странно длинной для обычного подклада, это бросается в глаза: императору приходится держать ее сложенной, чтобы она не касалась земли. Она лежит на плече подносящего и ниспадает ниже пояса. Это очевидная аномалия. В противоположность описанному, на другой миниатюре из летописи Скилицы мы можем отметить, что полотно, на котором вручается псевдописьмо от Иисуса к царю Авгарю, пропорционально размерам письма. Словом, «по случаю прибытия Эдесского образа в Константинополь, – заключает преподобный А.-М. Дюбарль, – рисовальщик захотел напомнить, что привезенный ковчег содержал не только маленькое изображение лица, которое станет Мандилионом, так и очень длинный отрез ткани, который невозможно было развернуть сразу, открыв крышку». И в качестве доказательства «ткань также изображена переброшенной через плечо и спину подносящего в сцене погребения в псалтыри королевы Ингеборги»[81].
К тому же выводу пришел в 2014 году другой синдонолог, Ив Сайяр, исследовавший связь между туринской реликвией и платом с изображением одного только лица: «Сосуществование в Константинополе двух реликвий, Мандилиона, изображения Лика Христова из легенды об эдесском царе Авгаре, и Плащаницы, в которую, согласно Евангелиям, был завернут Христос после смерти, кажется, можно считать подтвержденным, с X по XIII век»[82]. В конце концов, разве византийцы могли не приобрести «дочернюю» реликвию, которая была списана с «основной» и с которой она составляла единое целое? Плащаница, по-видимому, хранилась в то время в том же реликварии, что напоминает нам ставротеки Креста Христова (лат. tabulae), в которых священный объект был скрыт под выдвижной пластиной[83]. Упоминание об этом необычном удвоении Образа также встречается в нескольких рукописях Синаксаря (собрания житий святых православной церкви), хранящихся в монастырях Афона: