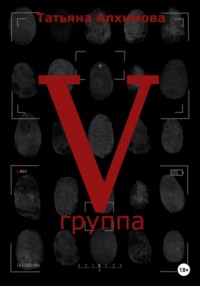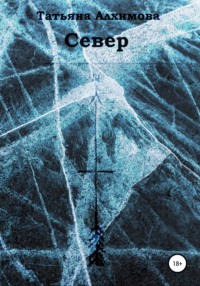Полная версия
Простые элементы
К чему я вспомнил то время? Оно отозвалось в памяти благодаря лучам заходящего солнца, пойманного в сети окном движущейся электрички. Ингольд не соврал, когда пообещал собрать компанию для вылазки на дачу. Мне, в общем-то, не так важно было куда ехать и с кем – не в первый раз – а вот остальным я мог показаться подозрительным. Впрочем, наличие средств и общая безбашенность молодости, вкупе с праздным любопытством, – сыграло роль большую, чем всё остальное.
Таким образом, я сидел, рассматривая пассажиров с унылыми лицами, облагороженными золотом уходящего дня, слушал бессвязную болтовню кратковременных спутников, а сам внимательно следил за Ингольдом и собственными мыслями. Поехать с нами согласились его сотоварищи, оказавшиеся гораздо более сговорчивыми: я получил единственный вопрос «откуда деньги?», на что, естественно, ответил правду: «остались от продажи картины». Художника, прилично зарабатывающего на своём творчестве (на уровне с руководящими должностями), да ещё и столь молодого, никто из них никогда не видел до сегодняшнего дня. Так что вотум недоверия перестал мне грозить. И только нарочито серьёзное лицо Льдинки несколько омрачало поездку.
В голове бесконечно мелькали брошенные в квартире Эло невымытые кисти, перепачканные тёмными, грязными красками: в последнее время мне не давались светлые оттенки, я не мог даже передать тусклые лунные лучи. Лу-лу… Всё так же виделось мне лу-у-унным. Трагическим. Горьким. И холодным. И даже Ингольд превратился в Лёд.
Девушка, что сидела напротив, кажется, по имени Дарья, с ухмылкой рассматривала меня безо всякого смущения. В школе я делил парту с такой же задирой и хохотушкой, которая в итоге сторчалась ко дню сегодняшнему, и узнать её я бы не смог при всём желании.
– Натан, – пытаясь перекричать шум тормозящей электрички, обратилась она ко мне. – Что пить-то будем?
– Что ваша душенька потребует, то и будем, – безразлично отозвался я, игнорируя её насмешливый тон.
– И где только Лёд находит таких красавцев, – хохотнула Дарья, чем моментально заслужила каплю моей ненависти и нетерпения.
– Вы не поверите – я сам его нашёл.
– Да ладно тебе, Натан, – пришёл на выручку подруге Ингольд. – Мы случайно познакомились…
– На улице? – горячее масло лилось из меня, как яд из хвоста скорпиона, необъяснимо и нерационально. Как тогда, с Эло…
– В библиотеке! – отыгрался и он. Только никто не воспринял наш диалог серьёзно, разразившись диким смехом.
Я отвернулся к окну, продолжая меланхолично созерцать любимые цвета тонущей тростинки: золото, бронза, расплавленный металл, лава, солнце в объективе телескопа, застывший янтарь и полусгнивший апельсин, отсветы таящегося внутри угля огня… Она – единственная изо всех, не поддалась моему таланту, победила его и попрала все устои, на которых держался я как художник. Я ненавидел её образ всем сердцем, но так желал перенести его на холст, что выдавил из себя и ненависть, и злость, и даже отчаяние, будто прыщ. Только рана, оставшаяся от него, ещё не до конца зажила и напоминала о себе воспалением, зудом и противными прозрачными выделениями. Может, то были слёзы, – кто разберёт.
Шумной толпой человек в пять, или больше, мы выпали из электрички на допотопную станцию. Платформу покрывал старый асфальт с вкраплениями камней, на которые я всегда боялся падать, дабы вместо царапины не увидеть мясо. Окошко будки по продаже билетов было закрыто, а пассажиры торопливо перебирались каждый на свою сторону от железнодорожных путей по настилу. С собой мы везли рюкзаки, забитые выпивкой и пакеты с едой. Но я не удержался и заглянул в единственный работающий магазин за пределами станции (вспомнить бы её название!) – там мне спокойно, безо всяких вопросов и даже не глядя на время, продали три бутылки коньяка, четыре – шампанского, и целый блок сигарет. Всё это я вручил смеющейся Дарье, тем самым поставив в наших взаимоотношениях, продлившихся всего-то сутки, смачную точку.
Тягомотина дорожных разговоров, душный вечерний воздух, насыщенный запахами травы и цветов, прогретых солнцем до самого сердца, бессмысленный смех и выкрики спутников, шелест тяжёлых пакетов и весёлое позвякивание бутылок за спинами, – вот чем наполнились ближайшие полчаса, пока мы добирались до дачи. Я даже немного успел пожалеть, что подбил Ингольда на эту вылазку.
Со мной часто такое случается теперь: я что-то делаю и потом ещё долго не могу понять, зачем? Каковы были мотивы, отчего вдруг захотелось того, а не этого? Что-то расстроилось в голове, и мысли мои рассыпались, потрескались и собирались сами собой в причудливые картинки, названия которым не существовало. Может, когда-нибудь потом, когда наука шагнёт далеко вперёд, когда наши с Эло тела истлеют раз сто, учёный в белом халате найдёт ответы и припишет названия уродливым изображениям, иллюстрирующим мою жизнь. Потом. Но не сейчас.
Дача Льдинки пряталась за невысоким зелёным забором из рифлёного металлического листа и представляла собой, как по учебнику построенный домик в два этажа. Проникнув сквозь резную калитку, мы разбрелись по мощёной дорожке и газону. То тут, то там раскинулись небольшие клумбы, правда, из-за сумеречной темноты я не стал даже пытаться узнать цветы. Из глубины участка чёрными провалами окон смотрел на нас дом, смотрел и ждал.
Ингольд пробежал вперёд, пошумев ключами, отпер дверь и громко щёлкнул выключателями. Тут же первый этаж превратился в приветливого старичка со смеющимися глазами, а под крышей загорелись крошечные желтоватые лампочки. Слишком уютно и по-домашнему мило для нашей компании и того, что затевалось. Но я сам сделал этот выбор.
И если вы думаете, что вечер с ночью прошли, как обычно: весело, пьяно и бессмысленно (но позволительно для молодости), то ошибаетесь. В некоторый момент времени, кажется, уже далеко за полночь, я выбрался на террасу позади дома и сидел, вперясь взглядом в темноту ночи и поглощающий её лесок за забором. В руках тлела сигарета. Из огромной кухни-гостиной, размером с половину дачи, доносилось нестройное пение и глухой стук опускаемых бокалов. А потом всё изменилось. Я расслышал звук подъезжающей машины, металлический лязг открывающейся калитки и следом – бурные приветствия.
– Малышка Лу! – громче всех кричал Ингольд, видимо, отложив гитару.
С интересом я оглянулся и через сетку на двери рассмотрел её – невыносимо тонкую, болезненно знакомую. Тонущую. Тростинку.
Лу.
Но прежде… Прежде я обязан рассказать вам, какой драгоценностью оказался Ингольд.


Глава 5. Реминисценция
12
.
Компания, осевшая на заботливо созданной руками родителей Ингольда даче, пестрела разношёрстными людьми, для меня представлявшими интерес смутный, скорее – мимолётный. Дарья оказалась девчонкой простой и понятной – по классике – подрабатывала бариста, а со Льдинкой дружила по школьной памяти. Они вместе провели два последних бессмысленных года за одной партой. Сейчас эта ничем внешне непримечательная его товарка доучивалась в РУДН13 на факультете туризма и живо шпарила на нескольких языках, так что после пятой рюмки речь её представляла забавную мешанину из русского, английского, немецкого и китайского.
Шикарно нарезал овощи и пожарил на сковороде-гриль уйму сосисок высоченного роста Гарсон, скрывающий настоящее имя – Гарик. Я долго изучал его атлетическую фигуру и пришёл к выводу, что за ударными, где он провёл репетицию, – ему самое место.
Деловито разливал шампанское по хрустальным, ещё советским бокалам, Серёга-акустик, тоже старинный приятель Ингольда. Парень в целом довольно любопытный, с кудрявыми непослушными волосами, которые он и не стремился обуздать. Ну и для полноты картины мотыльками между нами порхали две сестрички-близняшки, по-рембрандтовски милые и будто бы одухотворённые, а на самом-то деле уже изрядно подвыпившие.
Что я делал в этой компании? Наблюдал. Хотел было попытаться влиться, но оказался слишком не таким, чтобы органично занять место недостающего звена. Ребята все работали, учились, занимались творчеством, а не вели праздно-богемный образ жизни, как я. Им требовалось поставить во главу угла, возвести на пьедестал, превратить в источник дохода свои таланты и навыки. Потому они и казались мне приземлёнными, слишком настоящими и живыми. А душа требовала призрачной эфемерности, недоступности и отличий. Я хотел видеть вокруг себя других людей. Людей, которые уже поставили свои качества на вершину и занимались лишь тем, что каждый божий день подтверждали право там находиться. Если с ними до сих пор не случилось ничего, что смогло хотя бы намекнуть на другую судьбу, значит… Недостойны? Недостаточно талантливы и амбициозны? Или просто неудачливы?
Но я видел – каждый из них по-своему счастлив. Молодость живёт надеждами, мечтами и фантазиями. Они дают пищу для долгой дороги к целям. Моя же дорога оказалась слишком короткой и началась рано. В тот момент, когда мать последней измождающей потугой произвела меня на свет. Кровь, околоплодные воды, испражнения, – вот из чего я вылез, ворвался в мир, явил себя. Закричал! Страшно закричал, требуя вдоха, требуя жизни!
И что теперь? Я сидел на мягком бежевом диване в окружении талантов скорее андеграундных, чем богемных. Пил с людьми талантливыми, но обыкновенными, напоминающими мне родителей. Те тоже не были обделены ни внешними данными, ни умственными способностями, даже выделялись среди прочих, но никогда бы не достигли высот, не смогли бы оставить заметного следа. Не отметила их длань Господня.
В сердце неприятно заныло – совесть ещё не зачахла, напоминая о том, кто я есть и от кого рождён. Плоть от плоти, кровь от крови. Яблоко от яблони! Имел ли я право поносить предков, виня их в обычности? Да разве мог бы я сейчас есть, пить, летать, одеваться, пользоваться благами цивилизации, если бы не миллионы тех самых обыкновенных людей? Но ставить себя чуть выше – огромное искушение. И кто поспорит, что я действительно нахожусь там, куда не каждому суждено попасть?
От себя стало противно. Непривычно грязно и липко. Стакан оказался пуст, и я потянулся к бутылке.
– Заскучал? – подал голос Ингольд, незаметно подобравшись ко мне сзади. Он подозрительно близко навис из-за спины, оперевшись на спинку дивана, и теперь шептал в самое ухо. – Хотел вечеринку, борзый философ.
– Если б знал, что вы такие унылые…
– А тебе что надо? Какой такой феерии?
– Чтоб память отшибло. Чтоб не зудело внутри. Понимаешь?
– Нет.
– Иди тогда.
– Я у себя дома.
– Лёд… А знаешь что?
– А?
– Ты неудачник.
– С чего бы?
– Посмотри, кто тебя окружает? А? Думаешь, они выбьются в люди? Думаешь, смогут доползти до вершины или хотя бы до более или менее приемлемых высот?
– Если захотят…
– Нет! Нет, нет и нет! Если бы могли, то все заметили бы предпосылки. Ничего не будет, Льдинка… И тебя они утащат на дно. Хочешь, скажу, что будет? – я не дождался ответа, а потом продолжил шёпотом, пока никто нас не слышал, в очередной раз занимаясь закусками. – Все они, заставленные нуждой, подыщут себе работу, попробуют ползти по карьерной лестнице. Переженятся, чтобы проще было тянуть ипотеку, нарожают отпрысков… Они никуда не стремятся на самом деле, просто мечтают, чтобы жизнь не казалась такой пресной и бессмысленной. Ты только посмотри! Мы выпили половину запасов, а никто ещё даже никого в постель не утащил. Скромная, тихая жизнь. Даже праведная. Скучная до сведённого желудка. Хлеб и вода! Даже капли вина нет… Если бы я рисовал этот вечер, то вышло бы сплошное серое полотно. Ты слышишь, о чём они говорят? Слышишь? Я не могу ни слова вставить – настолько всё просто и очевидно… В них нет страсти к жизни.
– Обидно звучит, Натан. Не знаю, к чему ты привык, но разгул, пошлость, развязность и дикие вечеринки, – это далеко не о полноценной жизни. И не о страсти. Скорее об отчаянии и внутренней пустоте, которую надо чем-то заполнить.
– Хочешь сказать, что я пуст?
– Вовсе нет. О таком сложно догадаться в первый день знакомства, да и тебе самому лучше знать.
– Но ты ведь так думаешь?
– Единственное, что я думаю – ты странный. Но морду бить тебе не станем, – Ингольд рассмеялся, обогнул диван и плюхнулся рядом со мной. – Эй! Деловые! Подайте-ка гитару!
– Лёд играть собрался? – девчонки-двойняшки разом вздохнули радостно, притащили еды и выпивки, плюхнули всё это богатство на столик. – Гарсончик! Тащи инструмент!
– Почему я-то? – слегка покачиваясь, верзила выбрался из кухонного закутка в обнимку с миской, полной льда.
– Ты лучше всех ориентируешься в доме!
– О боже…
– Сходи, пожалуйста, – улыбнулся ему Ингольд и хлопнул меня по колену. – Ну что, друг, готов услышать настоящую музыку?
– Всегда.
– Ха! Сейчас начнётся! Приготовься, Нат, – хохотнул Серёга-акустик, устраиваясь на подушках, брошенных рядом с диваном. – Лёд прежде чем играть, загоняется по части музыкальной философии. Так что предлагаю выпить! Дабы пережить этот момент с наименьшими потерями…
– А сам-то! Сам! – наигранно злясь, отозвался Ингольд и разлил половину бутылки коньяка по стаканам. – За творчество, за мои волшебные руки и за вас! За лучших слушателей!
Мы дружно потянулись к столу, оттесняемые вернувшимся Гарсоном, но всё же выпили. Взгляды устремились на Льдинку, и я поймал себя на ощущении некоторого трепета, как если бы сам готовился взять кисти и приступить к работе. Руки Ингольда, которые застряли в моей памяти навечно, ловко и бережно поворачивали чёрные гитарные колки14, а голова склонилась ближе к струнам, чтобы лучше слышать их звучание.
– Настройка – процесс поистине магический, – шепнул он, кажется, специально для меня, ибо все остальные молча кивали. – Я полагаюсь исключительно на свой слух, хотя можно пользоваться разными приспособами. Только так неинтересно. Каждый раз это помогает мне проверить себя – насколько хорошо помнится гармония, насколько чисто восприятие. Спешу предупредить! Алкоголь ни в коем разе не вредит. Настоящий музыкант на такие мелочи даже внимание не обратит, скорее наоборот! Будет использовать их для помощи… Хм, – лицо Ингольда стало забавным, по-детски внимательным, напомнив мне одного из одноклассников, для которого абсолютно всё было удивительным и новым. – А красотка наша даже и не расстроилась особо с прошлого раза.
– Так мы ж недавно приезжали, – вякнула Дарья и затихла, уминая колбасу. Отчего-то она мне теперь виделась вульгарной, и я был бы рад, если б Серёга или Гарсон увели её подальше, в одну из спален, и делали там что угодно, лишь бы до утра больше не лицезреть грубоватое лицо.
– А дело не в этом, – улыбнулся Лёд. – Ну да не суть. Натан!
Я вздрогнул и напрягся, готовый отсесть подальше.
– Isaac Albéniz, Asturias. Или по-русски – Легенда! – объявил он, несколько оглушив меня, и замолк, направив взгляд куда-то вдаль, за пределы гостиной, дачи и, наверное, мира. Так что мне внезапно тоже захотелось посмотреть в ту сторону, и я несколько тяжёлых мгновений пытался бороться с этим чувством. – Лучшим исполнителем был и по сей день остаётся, хоть и давно покинул нас, – Andrés Segovia15. Легенда! Испанец со строгим взглядом, самоучка! Вырастивший и воспитавший в себе талант, отдавший ему всю жизнь. И, наверное, всю душу. Я сотни раз пересматривал старые видео, наблюдал за руками, за телом, за каждым вдохом, подражал. Учился… Но так и не достиг того уровня умиротворения, с которым мастер играл. Родители привезли из Мадрида пластинку с записями – одну из самых дорогих для меня вещей. И если винил – не вечен, то музыка – не прекратит звучать никогда, покуда есть гитары, есть память и…
– И ты? – добавил я тихо, умиляясь его наивной и лёгкой, как органза, одухотворённости и веры в великую силу таланта, в божественное и возвышенное.
– Музыканты, Натан. Те, кто готов нести музыку в себе…
– Не перебивай, – прошептала одна из двойняшек, подбираясь ко мне. – Дай настроиться.
Она плеснула в стакан свежего коньяка, открытого Серёгой, и вложила в ладонь. Надеялась ли на что-то, или просто была вежлива потому, что пьяна? Или, может, воспитана хорошими родителями? Правильно, традиционно. А теперь сидела здесь, среди такой же благополучной молодёжи, считающей себя если не бунтарями, то теми, кто в состоянии добраться до своих мечтаний. Только среди овец затесался волк, и ему не понадобилась никакая шкура, только лишь молчание и улыбки, да ещё немного денег. Ах! Как же я отвратителен в своей лжи! Конечно же, без протекции Ингольда ничего бы сейчас со мной не происходило интересного. Хоть и вечер этот был до боли уныл.
– Играй же… – шёпотом поторопила Льдинку Дарья. Р-р-р! Жёсткое имя её застряло на зубах песочным скрежетом, и я устремил взгляд на нежно-розовые руки близняшки. Если бы меня привлекал в живописи реализм, я непременно изобразил бы их такими, какие они есть. Но гораздо больше захватывала мысль, рисующая образы сахарной ваты, мягкой, округлой, цвета небес перед восходом. Я уже представил, что могло бы из этого получиться, и какие краски взять, как Ингольд заиграл.
Взглядом он внимательно и несколько отрешённо смотрел на гитарный гриф, согретый его же рукой. Пальцы крепко прижимали струны и менялись местами, согласно только Льду известной схеме. Без нот, без наушника в ухе, безо всего – он играл душой, сливаясь с инструментом, не видя ничего вокруг. И я понимал это не разумом, а сердцем. Оно дрожало точно так же, как струны, которые Ингольд нежно перебирал, будто бы лаская самую любимую женщину во всей Вселенной.
Во мне проснулась зависть: как художник, я никогда не смогу рождать нечто столь же прекрасное. Результат моего творчества отсрочен во времени, и вовсе рискует быть непонятым и уничтоженным. Образы музыки нельзя порвать, сжечь, стереть или закрасить. Если звуки однажды были услышаны, значит, они вечны. А картину достаточно испортить физически, и тогда уже никто, никогда не сможет ею проникнуться. Нельзя увидеть то, чего нет! Музыку же создают и без инструментов.
Боже! Боже мой… Я казался себе ничтожеством, как и в школе, когда беззаветно любил учительницу, когда пытался подняться выше других. Но всегда был кто-то, кому не нужно было подниматься, ибо он уже и так стоял на самой вершине – появившийся на свет с выигрышной картой, с талантом иного порядка. Ему, чтобы подтянуться до перекладины, стоило только поднять руку, мне же – вырасти.
Совершенно зря затеянная вылазка теперь вызывала боль, слёзы обиды, отчаяния и ненависти к собственным спонтанным решениям. Но вместе с тем, я любил Льдинку и его волшебные руки, его музыку и всю музыку мира в нём. Я знал, что нашёл нечто бесценное, то, чего не могла бы мне достать всемогущая Эло.
Звуки затихли, но воздух всё ещё дрожал. Шторы на распахнутых окнах осторожно вздыхали, в пепельнице дымились недокуренные сигареты, на улице суетилась ночная жизнь, далеко-далеко отсюда заливалась лаем собака.
– Сколько раз слушаю, – протянул заворожённо Гарсон, – и каждый раз задаюсь вопросом, как ты это делаешь?…
Ингольд пожал плечами.
– Мастерство, – вздохнула моя близняшка. – Не пропьёшь!
– Да ладно вам, – рассмеялся Лёд, дотянулся до бутылки, хлебнул из горла и совсем уже другим тоном продолжил. – Ну что, пьянчуги? Петь будем?
– Е-е-е-е!
Грохнули стаканы и бутылки, раздался дружный смех, развесёлые споры о выборе песни, а я затянулся туманом. Исчез, испарился, смазался, как отражение на покрытой рябью воде. Эти люди – не для меня. Их песни – чужие. Их голоса – из другого мира. В этот момент я со всей болью и тоской по невозможному понял: мы отличаемся. Я отличаюсь от них, и точно так же Эло вместе со своей богемой отличается от меня. Недостижимо. Чтобы быть другим, нужно таким родиться. На тех, к кому я стремился, кем я хотел быть, – неважно что надеть, неважно где быть, – на их лицах отпечаток инаковости, ибо она – внутри. Она создаёт людей иного толка, внутри у них не просто душа, на ней имеется налёт особенности, подобно золотой патине, проглядывающей сквозь тонкую кожу.
Они источают свет и аромат, недоступный большинству. И точно так же недоступный мне – нельзя получить другую душу, пока ты жив. Но как же я хотел! Сидел и судорожно искал отличия более значимые, чем видел сейчас: не было во мне простоты Гарсона и Серёги; отсутствовала и грубость Дашки; мягкотелость и легковесность близняшек тоже не виделась. Но Ингольд ломал систему! Он стоял выше меня. Вы-ше! И смутным воспоминанием возвращался взгляд Агаты Вилорьевны, чуть снисходительный и даже немного жалостливый. Она видела детей насквозь и знала, что внутри её непоседливого ученика нет и намёка на золото душевное. Хоть и наличествовал талант, амбиции, и на мир я смотрел по-особенному. Только этого слишком мало! Ма-ло!
Схватив со стола пачку сигарет, раздербаненную сотоварищами по алко-вечеру, уже почти трезвый от гадливых мыслей, я выбрался на террасу, оставив дверь открытой. Темнота собралась чёрным пятном в лесу, поглотив часть забора и старые плодовые деревья вдоль него. Сидеть на тёплом ещё дереве ступеней было приятно и необычно – в своей жизни я не так часто бывал на дачах. Пахло свежестью и сыростью близкой дикой природы. Мне бы хотелось верить, что она именно дикая там, за невысоким забором, и готова сожрать любого, кто окажется случайно ли, специально ли, на её территории. Рассеянный свет падал мне на спину, увеличивая тень до гигантских размеров.
Я улыбнулся. Раскурил сигарету и внимательно посмотрел на тающий серый дым. Его сносило в сторону, хотя никакого ветра не чувствовалось. Ребята пели, прерываясь смехом или болтовнёй, всё так же гремели посудой и казались мне фоном для собственной жизни. Как грунт для холста, на котором я собирался изобразить нечто особенное, только никак не мог.
Издалека донёсся подозрительный шум, то ли похожий на шум ветра, то ли на дождь. Слух напрягся, как и я сам. Но совсем скоро наступила ясность: к дому подъехала машина. Мне было её не видно, но я хорошо слышал гуд двигателя и шорох покрышек, даже сквозь нестройное пение. Лязгнула калитка. Кто-то приехал. И, действительно, не прошло минуты, как музыкальная идиллия рухнула с радостными возгласами, среди которых выделялся Ингольд.
– Малышка Лу!
Оглянувшись, как я уже говорил, рассмотрел сквозь сетку свою давнюю библиотечную знакомую. Она стала ещё тоньше, ещё прозрачнее, и мне виделись вокруг неё не друзья-товарищи, а гиблое грязно-серое озеро. Лу – что за странное имя – улыбалась и крепко обнималась с каждым, и я, сжав внутреннюю пружину, ждал, что вот сейчас – сейчас же! – губы её сомкнутся с губами Ингольда. Настолько хорошо они смотрелись рядом. И тут же появился образ, достойный быть запечатлённым моими руками на голом холсте. Нереальность Лу в утончённых, музыкальных объятиях Льдинки.
Даже смешно. До чего я докатился! Искал сюжеты в обыденности, забыл, зачем сюда приехал. И, действительно, зачем?
Пока важные воспоминания о собственных желаниях пытались облечься в форму, чтобы осчастливить меня присутствием и наполнить ночь смыслом, за спиной тягуче-томительно, по-простому, правильно, честно и беззаботно, утекали в прошлое минуты молодости тех, кто даже не пытался об этом думать. Им было весело. Им было нормально. А я, обжигая пальцы очередной невыкуренной сигаретой, чувствовал себя столетним стариком, доживающим последние минуты и отчаянно не желающий терять нить, по которой живая водица достигала сердца.
– Ну, здравствуйте. Спонсор, – раздалось позади. Я ухмыльнулся, но оборачиваться не стал.
– Привет-привет.
– Сразу понятно – человек вежливый и воспитанный, – продолжала ехидничать Лу. Мне вспомнились наши переглядывания в Копенгагенской библиотеке, и губы против воли растянулись в лисьей улыбке.
– Натан, – протянул я ей ладонь развернувшись. Узнает или нет?
– Очень приятно, – с каменным выражением лица она пожала руку и тут же отвела взгляд. – Лу Сантана.
– Ха! – вырвалось у меня.
– Что?
– В чью же честь Сантана?
– А много вариантов?
– Интересных для меня всего лишь два. Начну с того, что ближе к сегодняшнему дню.
– Забавно. Продолжайте, – Лу уселась рядом, на расстоянии вытянутой руки и взглядом пропала в тёмном лесу.
– Есть в этом бренном мире фантастический гитарист Карлос Сантана. У него даже Грэмми имеется. Мне кажется, каждый хоть раз слышал его песни. М… Oh Maria Maria. She reminds me of a west side story. Growing up in Spanish Harlem. She's living the life just like a movie star16, – напел я знакомый мотив, ожидая произвести впечатление. Но Лу оставалась неподвижной и безразличной. – Нет? Хм… Тогда… Man, it’s a hot one. Like seven inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words that melt everyone. But you stay so cool. My munequita, my Spanish Harlem Mona Lisa. You're my reason for reason. The step in my groove17. О боже! Она невероятно известна! Карлос играет в шляпе… Очень типичный мексиканец по внешности, правда, уже изрядно постаревший…