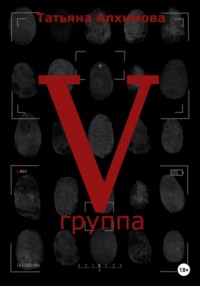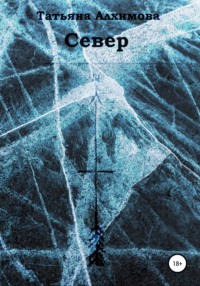Полная версия
Простые элементы
Естественно, персонал общался по-английски, и приходилось нехотя отвечать. Вам перескажу на русском, чтобы изложить суть без искажений, но прошу вас помнить: исходная беседа давалась не так легко, как хотелось бы, с паузами и подбором слов, за время которых мы успевали в подробностях рассмотреть друг друга.
– Ваша собеседница готова к разговору, – прошелестела сигаретным басом низкорослая, широкоплечая девушка в неказистом костюмчике тёмно-фиолетового цвета, представляя мне её.
– Добрый вечер, – этот голос я не мог забыть ещё целый месяц. Моя Эло иногда пела и тогда звучала на пару тонов ниже, чем при беседе, а красавица, что стояла передо мной в коричневом застиранном свитере, не пела. Но говорила. Горячим шоколадом лилась её речь, перемежаясь с крапинками нерастворённых кристалликов сахара.
– Рад знакомству, – я протянул ей ладонь и получил в ответ крепкое, порывистое пожатие.
Мы остались одни и не сговариваясь устроилась в мешках, уперев взгляды в окно. Начался дождь.
– Не хочу, чтобы вы называли мне своё имя, – продолжила она после нескольких минут молчания, наполненных беззвучным стуком капель по стеклу.
– А вы?
– Мы здесь не для знакомства.
– Тогда для чего? – я пытался не смотреть на неё, но в размытом отражении всё равно видел больше, чем стоило.
– Вы знаете, куда пришли?
– Конечно.
– Это не клуб знакомств. Здесь просто общаются.
– В таком случае, – я всмотрелся в отражение и резко повернулся к собеседнице, отыскав серые, мутные глаза. – В таком случае, давайте уже начнём разговаривать.
– Давайте… – она хмыкнула, чуть приподняв уголок бледных губ, едва тронутых блеском. – Не понимаю, таких как вы, людей, что приходят сюда как в зоопарк. В ваших глазах нет искреннего интереса, но мне нужно с кем-то поговорить…
– Интерес рождается в процессе. Вы читали знаменитого русского писателя Булгакова? За точность не ручаюсь, но у него было что-то вроде «не надо недооценивать человеческие глаза»5. А наши взгляды только-только начали пересекаться. Так я слушаю, – мне пришлось сменить позу, чтобы показать ей, этой русоволосой хвоинке, и своё пренебрежение, и внимание.
Ловко закинув худую ногу, обтянутую потёртыми чёрными джинсами, на другую, она распустила пучок, тряхнула негустыми, но мягкими волосами, спрятав за ними лицо, и снова собрала их, только теперь – в высокий хвост. Я не мог понять, кого она мне напоминала: позабытую актрису из старых фильмов моей юности, а, может, первую неказистую любовницу? Нет. Эта девушка такой не была. Тонкая кожа небольшого треугольного личика сияла ухоженностью, но к концу дня тускнела, – хорошо знакомый эффект, изученный на Эло. И даже это не скрывало её странной, немного искажённой красоты. Один глаз чуть больше другого, но замечал это, скорее всего только я, и то потому, что художник. Тёмно-серые ресницы, почти етественные брови, изящной полудугой подписывающие эмоции. Она напоминала мне дикую лесную ягоду, ещё не созревшую, но уже привлекательную.
Тогда ещё я не понимал, как работает система библиотек, и думал, что люди приходят поболтать о наболевшем, поделиться опытом. Но на деле оказался для незнакомки отцом-настоятелем, выслушивающим исповедь.
– Я застряла в прошлом, – начала она тихо, мягко скользнув взглядом по мне и с лёгкой печалью улыбнувшись. Ресницы её осторожно опустились, спрятав серый туман, и снова распахнулись. – Мне было пятнадцать, когда мы с родителями эмигрировали. Сначала они откровенно врали. Говорили, что это всего-то на полгода, длительная отцовская командировка. А позже, когда эти ужасные шесть месяцев закончились, меня поставили перед фактом – навсегда. Я не была готова. Не хотела учить новый язык, знакомиться с будущими одноклассниками и ассимилироваться. Дания не была мне интересна, этот странный климат, крошечные, игрушечные города… Жизнь была разрушена до основания. Вы можете себе представить девчонку пятнадцати лет с маленькой грудью, прыщами и стриженную под мальчика? Свободно владеющую из иностранных только английским? – она упёрлась в меня суровым взглядом, и если бы имела хвост, как у гадюки, затрещала бы им.
– Могу.
– Так вот я и была ею: униженной, раздавленной и преданной собственными родителями. Они могли бы отдать меня в школу при посольстве, но не сделали этого, чтобы я быстрее освоилась в чуждой среде. А я не хотела! Все вокруг твердили одно: вырваться из бесперспективной жизни в далёкой стране, едва ли дотягивающей до уровня датского захолустья – счастье! Великая удача, которой нужно пользоваться. Похоже, никто из них не видел этого захолустья и не понимал подростков. Не все взрослые горят желанием покидать родину. И не всем подросткам требуется бунт и исполнение навязанных мечтаний о будущем.
Она говорила и говорила, иногда бессвязно, иногда тихо, выдавала невообразимо музыкальное крещендо, осторожно на каждой фразе добавляя громкости и описывая экспоненту. Я толком не слушал, пропуская незнакомые слова мимо, но ухватывая общую суть. Её английский был великолепным, словно родной, и приходилось ловить себя на желании услышать из нежных уст речь французскую или русскую, хотя, к слову сказать, французский мне никогда не нравился…
За первые пятнадцать минут я узнал о ней слишком много, но и вместе с тем недостаточно для того, чтобы из незнакомца стать близким. В большей степени она описывала события, но никак не собственные ощущения. И чтобы немного изменить угол внимания, сместить акценты тонов, я резко поставил цветовое пятно, словно бы случайно упавшей кисточкой на небрежно брошенную картину.
– Локон!
– Что? – она так и застыла с приоткрытым ртом, потеряв окончание очередной фразы.
– У вас локон выбился из причёски, – улыбнулся я и примирительно добавил, – простите, но не мог не сказать. Он отвлекает меня от ваших слов…
– Ерунда, – распустив волосы, милашка какое-то время молча рассматривала резинку, следом спрятала её в карман и, повернувшись к окну, тяжело вздохнула. – Знаете, я вспоминаю один момент по кругу. Иногда каждый день, иногда раз в неделю. Но ещё не было такого, чтобы этот образ и чувства, возникающие при виде его, покинули меня надолго.
– И что же это? Что-нибудь нехорошее?
– С какой стороны посмотреть. Само воспоминание скорее тёплое, но из-за того, что оно слишком дорого, слишком трогательно, – я не могу назвать его счастливым. Понимаете?
– Отчасти. Наверное, у каждого есть воспоминания с ноткой лёгкой грусти. Вы когда-нибудь видели картину Врубеля «Демон сидящий»?
– Только ненастоящую.
– Это не так важно. Помните его взгляд?
– Смутно.
– Потом поищите. Но я вам скажу вот что… Картина эта выполнена в печальных чёрно-сине-голубых тонах. И Демон, хоть и зовётся так, выглядит почти как человек. Взгляд его совершенно по-людски меланхоличен. Он потерял что-то, может, надежду или любовь, или нечто крайне важное. Смотрит и ждёт, возможно, представляет себе то, что хотел бы видеть. Но поза его спокойна, уверенна. Значит, хоть его душа и растревожена, глубоко опечалена, – сердце продолжает биться. Пограничное состояние… – мои губы дрогнули в сочувствующей улыбке, и я приготовился снова слушать. Но девушка молчала, изредка моргая. Пальцы её сплелись друг с другом, заворожив своим изяществом.
Я уже начал было беспокоиться, что наше время закончится, а услышать о воспоминании так и не удастся. И, словно прочитав эти мысли, милашка продолжила с лёгким вздохом.
– Мы жили в многоквартирном доме, окнами на юго-запад. Моя небольшая комната, единственная изо всей квартиры, смотрела на север. Или куда-то в ту сторону, где никогда не появлялось солнце. Поэтому каждый вечер я садилась на старое кресло с грубой обивкой в гостиной. Кресло стояло перед окном, выходящим на балкон. Лучше всего было там притаиться весной, когда все цвета ещё нежные, только-только омытые талым снегом. Сквозь стёкла на балкон проникали лучи заходящего солнца и делали всё, что там лежало, волшебным. Мне до сих пор кажется, что эти лучи, отражаясь от старых игрушек, коробок с пустыми банками, облезлого велосипеда и папиных лыж, добирались до сердца. И ему становилось тепло. Я вся светилась этим золотом, будто бабочка, усыпанная пыльцой. Я знала – мир, в котором мы живём, – мой, родной, самый настоящий. И суть его раскрывается тогда, когда заходящее солнце ломает границы реальности. Тогда я любила. Себя, родителей, друзей, родных… Любила абсолютно всё. Наполнялась этим чувством, пила его, пока свет не гас. Каждый день…
Голос её потух, растворился в тишине, и остатки поглотили книги. Мне подумалось, что за окном вместо мокрого Копенгагена, она видит старый захламлённый балкон и весеннее солнце и пытается ухватить те ощущения за ускользающие из рук ниточки.
– И вы ни разу не были там, дома? На родине?
– Была.
– Но вернулись сюда. Почему?
– Потому что там уже ничего не осталось. Больше нет дома, только его стены. Нет людей, нет прошлого. Оно видится мне здесь, в Дании, совсем иначе. Я не хочу боли, что приносят пустые коробки, в которых раньше лежали памятные вещи.
– Оставлять прошлое позади – нормально.
– Только если не насильно.
– Ну, погодите. Тогда есть шанс никогда этого не сделать!
– Интересно, вы готовы удалять аппендицит, если он вас не беспокоит? Превентивно?
– Вы утрируете. Да, терять то, что имело значение, – больно. Но зацикливаться на потерях…
– Нормально!
– Ваша фраза: «я застряла в прошлом». Она подразумевает желание оттуда вылезти. Я не прав?
Милашка бросила в меня камень взглядом, поджала губы и обняла себя руками. Спряталась. Слова мои попали точно в цель. И если она сюда пришла поделиться болью, получить сочувствие или совет, то была не готова. Как маленький ребёнок, который хочет сделать что-то сам, но в бесплодных попытках хочет помощи и отрицает её.
– Мой психотерапевт говорит, что мне нужно быть менее категоричной к людям и их суждениям. Поэтому я здесь.
– И поэтому не хотите меня услышать? – я наклонился вперёд и заглянул ей в лицо.
– То, что вы говорите… Режет по свежей ране.
– Она не свежая…
– Да… – милашка опустила взгляд и сжалась, но спустя секунд десять встрепенулась, горделиво зыркнула и добавила уже более жёстко. – Но вы правы. Резать надо по живому, один раз и наверняка. Чтобы уж отболело и никогда больше. Никогда! Не…
– Увы… Должен. Даже обязан вас разочаровать, – я отвернулся к окну и картинно вздохнул. – Старые раны всегда болят к перемене погоды, с возрастом, и никогда… Никогда! Не дают о себе забыть.
Тогда мне казалось, что человеческая библиотека сродни бару, где любой подвыпивший может подсесть на свободное место, дабы излить душу случайному собутыльнику. Кто же мог знать? Спустя всего год с небольшим, эти безликие, тихие места, станут моим пристанищем, отдушиной и гарантом свободы перемещений, а заодно залогом положительной динамики в лечении. Эло свято верит в их пользу, родители настроены скептически, но спорить не решаются – ведь я выхожу на улицу и общаюсь с людьми, почти не пью и не «малюю страсти», закрывшись в комнате или того хуже, – в богемной мастерской.
Но в этот промозглый день, в тоске по печальному взгляду Элоизы, по её горячим ласкам, становящимся всё более и более изощрёнными, я не думал о будущем дальше следующего получаса.
– А вы? Почему вы здесь? – подала голос та, о ком я успел позабыть на несколько секунд, увлечённый соблазнительными картинами воспоминаний о вчерашнем вечере.
– Я? Разве не говорил?
– Может, и было. Уже не помню.
– Знаете… Художники много путешествуют по миру в поисках новых впечатлений и в погоне за вдохновением. Оно скользкое, как морской угорь. Да и опасно. Только поймаешь его за хвост, как эта тварь, изловчившись, цапнет тебя за руку. И вот, ты уже не можешь держать кисть, злишься, негодуешь, швыряешь краски на пол, топчешь идиотские тюбики… Драишь мастерскую до потери сознания… А хвост так и держишь… В общем, – я улыбнулся, пытаясь нащупать её удивлённый взгляд, – занесло меня сюда ветром желания… Как бы сказать верно? Желания остыть. Дождаться, пока краски высохнут, а угорь сдохнет и прекратит кусать.
– Не понимаю вас. То есть, вроде бы понимаю, но…
– Всё это совершенно не имеет значения. Вы же пришли сюда не слушать, а говорить…
– И вы прекрасный слушатель.
– О… Это только сегодня. Но мне так наскучила наша пресная, почти британская беседа, что хочется крикнуть какую-нибудь пошлость.
– Вот уж… – она привстала и пересела на край мешка.
– Стойте-стойте, – я сделал упреждающий знак рукой. – Ничего этого не будет. Шутка неудачная.
– И наше время закончилось. Спасибо, что выслушали.
– Не стоит благодарить. Если бы я смог понять – зачем.
– Что?
– Зачем вы это рассказываете? Ведь я не первый слушатель?
Мы оба поднялись и стояли теперь напротив друг друга, без труда улавливая дух не то соперничества, не то желание уколоть ни за что, ни про что.
– Просто делюсь в надежде быть понятой. Может, кто-нибудь испытывал нечто подобное и у него получилось исцелиться.
– Значит, библиотека – нечто вроде клуба анонимных алкоголиков?
– Слишком пафосно и гадко, но в какой-то степени…
– Жаль, что я не алкоголик. Анонимный.
– Вы хуже.
– Согласен.
На том мы и расстались. Это теперь, наученный опытом и вконец обиженный одиночеством, я пытаюсь преследовать тех, с кем имел неосторожность общаться, а тогда чувство жадности ещё не посетило мою душу, не отравило её и не вгрызлось в мозг. Поэтому милашка упорхнула, или, вернее сказать, сбежала, как жучок из-под занесённой над ним стопы. А я тоскливо выбрался на улицу и побрёл, вынюхивая интересные места, как ищейка.
Если сравнивать с Москвой, то Копенгаген покажется невероятно маленьким. И мне, привыкшему к другим расстояниям, оказалось ничтожно просто добраться до Amager Fælled6 пешком. Мало что запомнилось, кроме привычной парковой обстановки. Плутал по дорожкам я долго и, сделав неудачный поворот, вышел к водоёму, название которого подсказала карта – Вагтуссёэн. Надо было бы пойти в другую сторону изначально, но я коротал время и пытался выбить из головы образ библиотечной незнакомки.
Не так давно прекратившийся дождь начался снова, и капли его оставляли аккуратные концентрические следы на мутной воде. Я сел на мокрую скамейку и как загипнотизированный наблюдал за тем, как круги расходились, разрастались, сталкивались, умножались и делились, исчезали и тут же возникали снова. Хаотично, подчиняясь только ритму, заданному небесной твердью, излившейся на этот город слезами.
Перед глазами возникла русоволосая тростинка в старом свитере и джинсах, которые хотелось сорвать и выкинуть подальше. Сжечь. Оставить её беззащитной и смущённой, хотя я был уверен, что она даже не дёрнется, если такое сотворить. Она была бы прекрасна в летящей полупрозрачной юбке или прошловековой ночной рубашке на голое тело, шелковистой, украшенной монограммами. И серые глаза становились бы ярче и глубже, выдавая отражённый лунный свет за собственный.
Я видел, как полупрозрачная она снимала с себя свитер, а потом, передумав на полпути, двигалась к пруду и раз за разом, стоило мне моргнуть, возвращалась на прежнее место. Усилием воли веки мои перестали опускаться, и тогда взору предстало зрелище поистине прекрасное в своём тотальном ужасе безысходности. Худые, бледные ноги несли лёгкое тело в воду, ступали тяжело и медленно, вязли в донном иле, но не останавливались ни на мгновение. Вот уже вода добралась до коленей, дотянулась до бёдер, скрыла растянутую резинку старого свитера, а она всё шла и шла, ведомая явственно считываемой целью. Утонуть.
Когда над поверхностью воды отражалась, двоясь, только её голова, я не выдержал. Моргнул. И за эту долю секунды случилась разительная перемена. Она повернулась лицом к берегу, и в глазах вспыхнул страх. Дикий и необузданный, как если бы на неё нёсся табун лошадей. Неизбежность грядущего пугала её так, будто не она сама приняла решение сделать то, что уже почти сделала. Разметав волосы по воде, лицо её запрокинулось к небу. И я не стал бы смотреть дальше, но не мог отвести взгляда.
Лёгкой рябью потревожилась поверхность, вздохнула и почти затихла, когда незнакомка спряталась в серой мути пруда. Я считал. Ждал, что она вынырнет, позабыв о нереальности видения. Не подорвался спасать, не издал ни звука. Верил в силу желания жить. К тонкой границе двух разнородных сред, упрямо стираемой дождём, вырвались пузыри воздуха, знаменуя конец. Не верилось. Мне думалось, что люди так тихо не тонут. Тело обязано сопротивляться.
Я ждал, что она снова покажется на поверхности, пока не промок насквозь. Убедить себя в выдумке случившегося оказалось гораздо сложнее, чем принять за правду обратное. Тонкие ноги, стрелы дождя, испуганный взгляд, безысходность. Этим она передавала мне собственную суть, кричала свою историю. И ни старый свитер, ни поношенные джинсы – не могли обозначить единственное – сероглазая, туманная незнакомка не просто застряла в прошлом, она себя там утопила.
Под ногами шлёпали лужи. Любимые тёмно-зелёные кеды, памятные подростковым протестом, когда в школу нужно было носить строгие туфли, хлюпали, будто рыдали. Я заблудился. Нарочно, конечно. Как бывало делал в детстве, если не хотел возвращаться домой и быть застуканным за нелепым, стыдным и глупым делом – прогулками под дождём.
Эло вяло потягивала вино из бокала для мартини. В тусклом свете торшера пьянящие капли казались мне мареновыми7, словно кто-то разбавил краску и перелил в бутылку. Дождь давно стих, и в номер свободно проникал скромный ветерок через приоткрытое окно, принося частички уличной влажности. Провинившимся пацанёнком я шмыгнул в ванну, сбросив одежду по дороге, и долго молился под душем о том, чтобы взгляд серых глаз, готовых утонуть в себе, оставил меня.
После, пренебрегая установившимися ритуалами, я, минуя прекрасную, подёрнутую алкогольной дымкой Элоизу, удалился в спальню, где достал папку с бумагой. Её я купил специально для этой поездки – серую, плотную, шероховатую – думал, что именно в таких тонах буду делать зарисовки Копенгагена и окрестностей. Но за всё время нашего здесь пребывания, изобразил только одно: чёрное солнце Дании8. Много позже я часто вспоминал увиденное. Жуткое, пугающее зрелище, будто говорящее о скором конце света. При этом настолько сюрреалистичное, что и поверить глазам невозможно. В папке покоились несколько набросков в разной стилистике. Чёрный, серый, жёлтый и киноварь. Снова чёрный. Много чёрного, штрихи, точки, треугольники. Рассыпанная мозаика, кусочки обрушившегося небесного панно. Брызги грязи, выплески уродства, ямы и провалы. Птицы. Да. Это ведь были всего лишь птицы, устроившие собой солнечное затмение.
Я отбросил их в сторону, на пол, затолкал под кровать голой ногой. Карандашом рисовать не было никаких душевных сил, так что я отыскал в рюкзаке, забытом под окном, кусочек грязно-голубой пастели. Отвратительно светлый оттенок её раздражал страшно, отчего движения получались резкими, и вместо спокойной глади пруда выходил раздроблённый асфальт. Никогда не страдавший позёрством, я и сейчас был далёк от того, чтобы картинно скомкать бумагу и зашвырнуть куда подальше. Поэтому просто отложил на постель, пересел подальше и попробовал снова. И снова. И ещё раз! Ничего не выходило. Грязь. Детские неудачные потуги.
– Мне нужны холсты! – объявил я всё такой же безразлично пьяной Эло, когда вышел из спальни. Она пригубила кровяную марену9, уронив каплю на грудь. Рубином скатилась та в наполовину распахнутый халат, оставив едва заметный розовый шрам. Элоиза переложила ногу на ногу, бессовестно оголившись, и воззрилась на меня. А глаза у неё, надо сказать, – дикие, как у древней женщины, готовой перегрызть глотку обидчику и даже любимому. В порыве страсти.
– Ты не заболел, Натанчик?
Одного взгляда на Эло оказалось достаточно, чтобы объявить капитуляцию: я опустился подле кресла на пол и положил буйную голову свою на её худые колени. Ласковое поглаживание явило собой жест тотальной благосклонности и всепрощения. Наклонившись, она горячими губами коснулась моего уха и аккуратно дотянулась до пояса халата, вытянув его из хлястиков.
– Мы как Геракл и Омфала10, – шепнул я, ни на что не надеясь. Эло пушисто рассмеялась, обвивая мою шею поясом. Тело отозвалось мурашками и ярким, острым всплеском предвкушения, когда она протянула мягкую ткань и выкинула.
– Только ты не Геракл.
– Но ведь заслуживаю твоих выдумок?
– Конечно, радость моя… Ты напомнил мне о фреске из Помпей, где изображены эти двое. Совершенно извращённый миф, на мой взгляд. Но сам сюжет – очень пикантный и популярный. Но помнишь, мы с тобой рассматривали другую картину?
– Буше? В Пушкинском11?
– О да! – Эло заметно оживилась, и сердце кольнула ревность. Разговоры об искусстве были для неё гораздо более привлекательными, чем я. – Омфала там представлена в лучших традициях времени… Пышнотелая, рыхлая, с бледной, почти белой, но нежной кожей. Разве я похожа на неё?
– Если только внутренней силой… Но какова между ними была страсть!
– Это преувеличение. Она просто играла с ним, компенсировала затраты на покупку.
– Тогда бессмысленно утверждать, что мы и они – непохожи.
– Ты сегодня слишком циничен и груб, Натан… Думаешь, я не смогу тебя наказать?
– Может, я хочу наказания.
– Значит, у нас обоих выдался сложный день… Да? Мой мальчик… Пахнущий красками… – она опустилась на меня, пряча руки на груди под халатом, и я дрогнул, ощутив ликующие нотки амбры и вина, источаемые кожей Эло.
– Мы достанем холсты?
– Завтра.
Эло, в привычной для неё, деловой и безапелляционной манере, с силой женщины, знающей, чего она хочет, повалила меня на печальный бежевый коврик подле кресла. Несложно было догадаться о продолжении.
Я плавился под её телом и боялся, испытывал панический ужас, как и всякий раз, когда был готов пролиться живым, тёплым, вязким. Нет! Только не это. Умоляю! Эти слова звучали и в голове и срывались почти предсмертным стоном с уставших, сведённых губ. Но Эло никогда меня не щадила, и на мои скромные/робкие попытки настоять на желании вообще никогда больше не иметь возможности извергнуть из себя семя человеческое, печально, но твёрдо отвечала одно: когда-нибудь, когда я стану старше, обязательно захочу иметь детей. Только я не хотел ни в тот день, ни теперь, спустя время! Гнетущее чувство стыда, уязвимости, слабости и прорехи, подчиняющей меня женщине, – предательски шло рука об руку с заверениями о будущих желаниях и намёками на благодарность к родителям за то, что создали своё дитя.
Элоиза была искренне нещадной и, в попытках оправдать это звание, мучила рыдающего художника в мятой постели, такой же скомканной, как и мои неудачные наброски, или всё на том же твёрдом, как спина мифической Омфалы, полу; проще говоря, везде, где она того хотела. Но я совру, если скажу, что муки эти были мне омерзительны. Я любил их равно так же, как ненавидел Эло и собственную мать, так же как восхищался, как верил в собственные светлые чувства, кои должны были дремать глубоко внутри.
Обычно я отходил от сладких страданий быстро, но сейчас, наблюдая, как Эло отрешённо продолжала ласкать меня, размазывая остатки нежеланно-желанной страсти по телу, чувствовал тошноту.
– Да когда ты уже прекратишь?! – переполняясь гневом, крикнул я и вскочил. Грудь сотрясалась одышкой, перед глазами скакал тёмный номер.
Элоиза осторожно сползла с постели, всё равно что ядовитая змея, и подобралась к жертве.
– Ты никогда не прикасался ко мне первым, – вкрадчиво начала она, прижимаясь ко мне прохладным голым телом. И со стыдом и злостью я понял, что огонь ещё не угас, что единственный шаг снова обрушит нас в пропасть пошлости. – С самого первого дня я унижаюсь перед тобой, будто вымаливаю крохи… А меж тем, ты – это то, что дала тебе я. Ты – это я.
– Талант даден мне при рождении.
– Тогда какого чёрта ты его не используешь?
– Использую.
– Нет, Натан! Использую его я, зарабатывая тебе на карманные расходы, – зло процедила сквозь сжатые губы Элоиза (готов спорить, такой вы её никогда не видели и не увидите – это зрелище даже не для глаз близких, оно исключительно для меня). – А ты… Ты просто утомился, мой мальчик, – вмиг изменившись, словно догадавшись о моих мыслях, пропела она трогательно и ласково поцеловала в щёку.
– Эло…
К горлу подступил ком, как бывало в детстве, когда родители и школьные учителя ругали незаслуженно, а потом стыдливо заглядывали в лицо, пытаясь снискать прощения. Я сейчас оказался в той же позиции, раздавленный собственной вспыльчивостью и жадностью, направленной против той, кто делала для меня так много. Но об этом – потом.
Тот вечер и неизбежно следующую за ним ночь мы провели в одной постели. Эло спала, а я ждал утра, чтобы отправиться на поиски холстов. Только она всё снова сделала за меня: что требовалось, привезли в номер. И оставшиеся дни в Копенгагене были омрачены бесплодными попытками изобразить глаза не самой красивой, но таинственно притягательной незнакомки, тонущей в чахлом пруду.