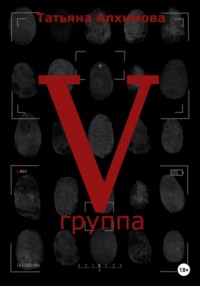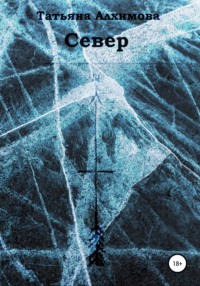Полная версия
Простые элементы
– Странно.
– Что именно?
– Да всё это. Вроде ж ничего страшного? Мог бы пойти отучиться на любую специальность, а потом и на музыку свою заработать.
– Мог бы. Но это же насилие! Если ты не любишь манную кашу, ты же её не ешь?
– Ем. Если больше жрать нечего.
– И не противно?
– Противно.
– А если каждый день так?
– Терпимо. Главное – выжить.
– Я вот не смог. Блевал этой манкой. Проглотил – и тут же в унитаз.
– Тонкая натура…
– Так мать моя говорила. Рыдала над кроватью, где я валялся полутрупом.
– Она права.
– Мне эта правда, Натан, ничем не помогла.
– А что помогло?
– Лечение.
– И диагноз настоящий?
– Такое ощущение, что я на допросе.
– Ты о депрессии рассказываешь, как по книжке. Ничего не хотел, ничего не мог. Смахивает на ложь.
– Если именно так и было, зачем бы мне врать?
– Мало ли.
Ингольд глянул на меня недоверчиво, но ничего отвечать не стал: собственно, выводы свои я уже сделал. Некоторое время мы провели в молчании, как на вершинах одиноких гор. Вокруг ветер, да бегущие по кругу облака, сквозь которые изредка проглядывает солнце. Мне доводилось видеть музыкантов: Ингольд не был похож ни на кого из них. Слишком правильный и принципиальный, лелеющий собственные страдания и пытающийся занять место, для него не предназначенное. Его можно было бы обозвать инфантильным, но это, скорее видимость. То, что он хотел бы показать окружающим.
– А ты себе на уме, да, Ингольд? – подцепил я рыбину его натуры.
– Что?
– На твоём месте я бы тоже разыграл карту депрессии и невроза, может быть, ещё накинул каких-нибудь сопутствующих расстройств и в итоге получил бы своё. А потом для отвода глаз походил бы на терапию и в человеческую библиотеку поднабраться историй на будущее. Неплохой вариант. Понимаю. Музыка, даже если приносит деньги, не даёт тебе главного – внимания, заботы и не снимает ответственность за жизнь.
– Это обвинение в лицемерии и лжи? – Ингольд хмыкнул и с довольным лицом откинулся на спинку диванчика. Демонёнок.
– Констатация факта.
– Ты не похож на того, кто лечился.
– Это только в фильмах можно сразу узнать, кто из героев болен душевно. В жизни всё гораздо интереснее…
– И какова твоя правда?
– У меня её нет. Она вообще не существует! И, кстати, наше время заканчивается… А прекрасная Мария безжалостно лишает благосклонности того, кто нарушает правила. Знаешь, есть такие удивительные женщины, созданные для того, чтобы поддерживать в мире баланс ненависти через дисциплину. Вот она такая, как адский привратник. И мне бы не хотелось лишиться возможности снова очутиться внутри. А для этого, как ты понимаешь, ворота должны быть открыты.
Ингольд снова не ответил, лишь смерил меня удивлённым и несколько надменным взглядом, оценивая адекватность. Никто! Повторяю – никто! – не готов общаться с психами (умолчу о том, что в психи записывают абсолютно всех, даже тех, у кого вполне себе стандартный нервный тик). Стоит тебе выбиться из опостылевшей серой массы (слава тому, кто придумал это словосочетание), как моментально прилетает клеймо и ставится на самое видное место – пусть все видят – перед ними человек ненормальный, непредсказуемый и опасный. Толпа любит объединяться и скорее сделает это не из любви к кумиру, а из ненависти к отличному от них. С начала времён что казни, что ярмарочные шуты и скоморохи, собирали одинаковое число зевак, искушённых зрителей. Я бы с удовольствием написал картину, где казнят шута, а голодранцы на площади не понимают, нужно смеяться или плакать.
Великолепный сюжет. Моя ладонь сжалась, будто бы уже держала кисть, и я представил, как грунтую холст и подбираю краски: мрачные, серо-жёлтые тона с коричневыми тенями, а на заднем плане – яркое размытое пятно кроваво-красного цвета, поблескивающее серебристыми точечками бубенчиков с идиотской шапки шута.
– Спасибо, – поблагодарил я своё воображение, но кивнул Ингольду.
– Было бы за что. Я ожидал совсем другого разговора.
– А вот не вышло. Тебе попался бракованный собеседник.
– Надеюсь, больше не увидимся, – Ингольд поднялся, расправил плечи и, резко развернувшись, вышел.
– Надежда – удел слабых, – шепнул я себе, как любил делать тогда, когда хотел поставить точку. Если бы у меня хватило сил и желания, я мог бы написать книгу афоризмов, бездарно сотканных из случайно выловленных умных фраз. Думаю, вышел бы бестселлер – мир быстрых разговоров, коротких фильмов, скоростных знакомств и тотального желания быть впереди, быть лучшим – проглотил бы это псевдофилософское и ориентированное на развитие личности фуфло с превеликим удовольствием.
– Натан? – дверной проём загородила Метте-Мария. – Ваш собеседник ушёл, можете последовать его примеру.
– Прошу прощения. Задумался.
– Хорошая беседа сложилась?
– Более чем. Впервые за все мои посещения я вынес реальную пользу.
– Очень рада. Можно попросить вас оставить отзыв?
– Сколько угодно. И, конечно, я вернусь.
– Заходите. Будем рады, – она скупо улыбнулась, оставила меня в холле и спряталась в боковом коридоре, ведущем к кабинетам.
Я остался один и, чтобы не вызывать подозрений, намеренно расслабленным шагом вышел на улицу.
Система работы человеческих библиотек по всему миру предполагает наличие условий для безопасного взаимодействия: друг другу можно не называть настоящие имена (хотя сотрудники обязаны их знать и проверять), каждого предупреждают о возможных рисках раскрытия личных данных типа телефона, места жительства и работы. Но Метте-Мария пошла дальше! Она не позволяет собеседникам одновременно покидать здание – опасается, что общение продолжится вне его стен. Во всяком случае, такие аргументы я слышал от неё. Но не верю. Истинная цель, скорее всего, заключается в том, чтобы не допустить преследования. Репутация места для безопасного и бережного общения, обмена опытом и помощи, – вещь сколь сильная, столь и хрупкая.
Отвлёкся немного.
При всём желании у меня не вышло бы узнать, в какую сторону направился Ингольд, но я свято верил в силу собственного везения, а потому просто пошёл туда, куда вели ноги. Двигало мной вовсе не желание узнать, где живёт «музыкант-себе-на-уме», а необходимость удостовериться в собственной правоте на его счёт. Найти бы я его, и так нашёл. У современной богемы, подобно разным тонким прослойкам общества в прошлом, тоже есть свой «сверхразум» и общая информационная среда, в которой можно отыскать кого угодно, где угодно и за любое время. А если у тебя в кармане не только деньги, но и признаки выгодных связей или намёки на не менее приятные удовольствия, чем от иллюзии власти, то проблемы решаются моментально. Проверено.


Глава 3. Фóртель.
Доверие собственной интуиции, доверие без оглядки и сомнений (которые не появляются в принципе, всё прочее – самообман и больная иллюзия), – одно из моих лучших качеств. А если случалось ошибиться, попасть в яму, двигаясь на полной скорости к цели, намеченной внутренним маяком, то это значило только одно: самосохранение и включение того слоя сознания, о котором никакой логике с интуицией неизвестно. В общем, меня можно считать фаталистом, тем не менее, творящим судьбу своими руками, испачканными краской ещё при рождении.
Хотелось запеть что-то вроде «мокрые улицы, иномарки целуются…» только от одного взгляда на тёмно-серый в каменную крапинку асфальт. Ну или пнуть алюминиевую банку из-под пива, попавшуюся под ноги. Только вот беда: с момента, когда я мог беспрепятственно бросать мусор на тротуары, газоны и другие замечательные места, всё кардинально изменилось, и город стал слишком чистым и правильным. Заодно и медленным. Время ускорилось, а движение пешеходов замедлилось: взгляды утонули в телефонах, а мозги затянулись мелкой ряской, подсаженной инфоцыганами. «Не спешите, и найдётся время на всё» (только не забывайте смотреть наши видосики во всех существующих соцсетях), «живите экологично» (берегите себя и вступайте только в правильные, здоровые отношения, а о природе позаботится кто-нибудь другой, заседающий в гигантском кабинете под вывеской «Экология» и так далеко от реальных проблем, как Европа от Австралии), «не обращайте внимания на других» (а если случайно на них наткнётесь за просмотром очередного мотивационного ролика, так не страшно, – вас заочно простят те, кто уже простил всех своих предков до седьмого колена).
Заметили? Я отвлекаюсь. Это потому, что хожу по улицам без телефона, много глазею по сторонам (художникам это важно) и думаю. Но интуиция при этом управляет моими ногами по своему усмотрению.
Мимо прозвенел трамвай, грохнул вторым вагоном на повороте, хотя не должен был этого делать – новый – и покатился дальше, минуя перекрёсток и обиженные авто перед светофором. Ухватив последние зелёные секунды, я перелетел на противоположную сторону и, заглянув в киоск-мороженое секундным взглядом, совсем как разнузданный пятиклассник, почти вприпрыжку, преодолел две длинные остановки.
Впереди, шагах в двадцати, сиял золотым нимбом непризнанный несчастный музыкант с хитроумным планом в голове, на пробу оказавшимся лишь жалкой попыткой показать себя не тем, кем он являлся на самом деле. Разгоняться я всегда умел получше прочих, поэтому сейчас, используя весь свой жизненный опыт, припустил по следу Ингольда, поблескивающему на сером, безжизненном асфальте.
Наскочив на него сзади, я тут же переместился, чтобы оказаться перед удивлённым лицом и сделать то, чего никто не стал бы ждать: впился в бледные сухие губы жарким, старческим поцелуем. Так прабабушка присасывалась к моей щеке в детстве беззубым ртом. Всего несколько секунд, и резким толчком Ингольд отпихнул смеющегося меня в сторону.
– Псих! – пискнул он и скривился в приступе тошноты. – Блевану щас.
– Ой, да ладно! Поцелуй-то детский!
– Да на фига? – он отвернулся и нервно принялся рыться в карманах.
– Воды? – усмехнулся я.
– Спирта! Обеззаразить.
– А вот это можно. Хочешь?
– Отвали ты! – Ингольд воззрился на меня в приступе безумного отвращения.
– Беги. Нет ничего проще.
– Какого я должен бежать? Не обязан прогибаться под твои выходки.
– Ты спирт будешь, или как?
– Больной, – бросил в сторону уже не ангельского вида музыкант, и двинулся вперёд по маршруту, запланированному ещё при выходе из библиотеки.
– Для тебя это новость? Мы оба с диагнозами, если помнишь.
– Ты нарушил правила! Я вызову полицию.
– И что скажешь? Что тебя пытался изнасиловать псих, но всего-то случайно чмокнул в самые губы? – я едко хохотнул и преградил ему дорогу.
– Что тебе надо?!
– Поболтать с тобой в неформальной обстановке. У меня, знаешь ли, – я подхватил его под руку так, чтобы Ингольд не смог вырваться, и потащил дальше, – есть прекрасная Элоиза, женщина богемная и вхожая в такие круги, о которых ты только можешь мечтать, но не делаешь этого из-за страха. Если ты сыграешь, и музыка мне понравится, то я как-нибудь за поздним завтраком – совсем как у испорченных аристократов, – рассмеялся я тихо, – намекну ей о существовании прекрасного Ингольда с волосами цвета восходных солнечных лучей. А она, понимаешь ли, безумно увлекающаяся натура! Молодость, увы, не вернуть, но её можно продлить, попивая кровь молодых и дерзких или увековечивая собственное имя в успехе талантливых.
– Ты бредишь?
– Ладно, не хочешь воспользоваться моим деловым предложением, тогда просто составь компанию: пока лечился, все друзья разбежались, даже выпить не с кем.
– С таблетками нельзя.
– А я сегодня не принимал. Всё равно уже не надо.
– Отпусти? Я с тобой ни пить, ни каких других дел иметь не хочу.
– Врёшь. Глаза уже загорелись. Кто ж отказывается от столь выгодных предложений? И я не о завтраке с Элоизой… Смотри, – я отпустил его и перебежал вперёд, уперев руки в грудь. Ингольд забавным, мутным взглядом скользнул по моему лицу, видимо, ожидая очередной выходки, но зря. – У меня есть средства, чтобы закатить пусть не грандиозную, но вполне сносную вечеринку для узкого круга. Выпить, покурить, может, с девочками… Поболтать. Врубить музыку, отдохнуть, забыться. А? С меня деньги, с тебя – компания. Только хочу за город. Дача есть?
– Дача есть, но вечеринки не будет.
– Почему?
– С психами не пью.
– А мне кажется, пьёшь. И не только. Иначе давно бы слинял – ничего тебе, мой хороший, не помешало бы, – расплылся я в улыбке и протянул ему ладонь. – По рукам? Куда ехать?
– В сторону Волоколамска.
– Чудесные места! И кого возьмём с собой?
– Людей надёжных. Чтоб если что – могли тебя вырубить.
– О! Я не так опасен, каким могу показаться… Ну! Посмотри? Разве я похож на того, кого придётся вырубать?
Пока я крутился перед ним, поворачиваясь то одним боком, то другим, и строя рожицы, Ингольд стоял мрачный и загадочный. Заправский музыкант! Слеплён по шаблону и намертво к нему прирос. Но вытащить его оттуда стоило: блеск чистых глаз и золотистый нимб сулили фантастическую награду за труды.
Кстати! Вы ведь до сих пор не знаете, как я выгляжу. Может, это не так важно, но для полноты картины (а то вдруг вы ещё не поняли, что Эло подцепила меня не только из-за таланта) нужно пояснить. Каждое утро в зеркальном отражении меня встречает помятое лицо человека чуть за двадцать (не хочу вспоминать о том, что четверть века – это обо мне). Да-да, не нужно говорить, что описывать себя через зеркало – моветон. Мне плевать. И вам должно быть тоже: никто не умывается перед собственной фотографией. Можно, конечно, рассматривать себя в чьих-то глазах, искажённым их формой; любование в начищенный чайник или грязную лужу тоже никто не отменял. О, есть и современные способы типа селфи-камеры в телефоне. Но зеркало ещё долго останется самым лучшим, пусть и ненадёжным инструментом самопознания.
Так вот: от матери мне достались тёмно-русые волосы, цвет которых раздражает и по сей день. Хорошо, что отец наградил густотой и толщиной, иначе выглядеть мне как дворовому псу или дембелю (ни то ни другое не воодушевляет). Я пытался носить хвост и каре, выбривал бока, плёл косы и чего только не делал, пока не оставил длину сантиметров семь и позволил волосам виться и торчать в разные стороны. В личном деле написано: лицо стандартное, овальное, нос острый, глаза посажены ровно, лоб невысокий, губы средней толщины, скулы завышены, по подбородку пробивается щетина, ресницы чёрные, глаза серые, брови тёмно-русые, темнее волос. Телосложение жилистое, рост 182 сантиметра, вес 62 килограмма, шрам от аппендицита, ноги прямые, размер стопы сорок третий, признаков искривления позвоночника нет, кроме небольшой сутулости. Уши небольшие, прижаты к голове.
Как видите – ничего интересного. Так что же нашла во мне Эло и находили другие женщины до неё и после, кстати, тоже?
Знаете, когда я беру в руки краски, то имею в наборе цвета простые и понятные, даже скучные потому, что привычные. Но когда начинаю их смешивать, комбинировать и наносить на холст, то выходит если и не шедевр, то нечто совершенно ничем не напоминающее цветные пятна на палитре. В картинах есть жизнь, есть и свет, и тьма, и дуновение ветра с брызгами морских волн, в них играет холодным утренним светом роса, звучит птичья трель, в них дети рождаются в муках, и в муках же страстных стонут нежные, зефирные дамы; в них уничтожается жизнь на полях сражений и отрицается мир привычный, изображаемый через призму нового, современного взгляда, зачастую плоского или абсолютно изломанного метафоричностью и желанием найти иное выражение самого себя (это я про свои любимые жанры, да и в целом про авангард).
Так не кажется ли вам, что если взять то простое и скучное описание моей внешности из личного дела, да расположить согласно законам природной красоты, то может выйти не просто достойный человеческий экземпляр, а образчик привлекательности, манерности и притягательности. Себя любить и хвалить можно и нужно. Посмотрите в зеркало – найдёте много интересного.
В общем, я заботился о себе, поддерживал форму, одевался дорого и со вкусом, но сообразно месту, куда собирался идти. Холить и лелеять своё тело меня научила Элоиза личным примером, огранила тот природный материал, что я получил от родителей. И всё это, вкупе с абсолютно адекватным восприятием не только достоинств, но и недостатков, делало из меня желанного гостя на любой вечеринке и объект, более всех требующийся в друзья-товарищи. Но Ингольд всё ещё колебался. Музыканты, которых я знал (можно не брать в расчёт классических, хотя среди них тоже встречаются потрясающие кутилы и свободные, как звери Саванны), продающие свой талант в клубах, на дешёвых сборищах по незначительным поводам, и в целом вынужденные выживать за счёт творчества, даже не стали бы раздумывать.
Мы молоды. Молодость обеспечивает нашу привлекательность. Привлекательность приманивает развлечения. Развлечения сулят удовольствия. Удовольствия имеют последствиями удовлетворение. А удовлетворение, в свою очередь, делает из нас личности более зрелые. И в тот момент, когда эта зрелость добирается до командного центра, спрятанного внутри кучерявого мозга, мы становимся ещё более привлекательными и запускаем волчок радостей жизни с пол-оборота, не прикладывая практически никаких усилий. Есть только один маленький нюанс: наличие денег и мотивации. Я мотивирован. И я мог оплатить старт.
– Скучный ты, Ингольд. Пафоса в тебе слишком много, только он как пудра: дунь, и рассыпется. Хочешь, дуну?
– Не боишься, что тебя в библиотеку больше не пустят? Дунет он…
– Если ты не будешь ябедой, то пустят.
– Мне неприятности не нужны.
– О боже! Боже мой… «Учись презирать неприятности, наслаждаться настоящим, не заботиться о будущем и не жалеть о минувшем»4, – процитировал я Лермонтова и остался этим доволен.
– Че-е-го? – округлил глаза Ингольд и сделался таким смешным, что смех мой яростно вырвался наружу и не собирался залезать обратно.
– Лермонтов это! Неуч!
– Да пошёл ты! – он обошёл меня, скорчившегося в конвульсиях эйфории веселья.
– Так куда, говоришь, ехать?
– Сказал бы я тебе. Да материться не люблю.
– Грубиян! – я подхватил его под руку, не давая сбежать. Как девятиклассница он ломался, может, даже набивал цену. Но, как любит говорить Элоиза, я, Натан, – лучший из лучших просителей и упрямец, коих свет не видывал. А она, знаете ли, слов на ветер никогда не бросает, да и отличается честностью ото всех прочих лицемеров мира богемного и мира другого, простого, где раньше я беспечно жил.
– Мне кажется, что ты застрял в другом времени. Когда было популярно устраивать попойки на даче?
– Когда я ещё не родился.
– Вот именно!
– Разве вы с друзьями не устраиваете посиделки? Ради развлечения, например.
– Устраиваем. Но чаще ходим в кафе, или просто погулять.
– Ну а банальные шашлыки?
– Тоже можно.
– Так что сейчас тебя останавливает?
– Твоя личность. И бесцельность.
– Цель есть – отвлечься. Повод не нужен. Что до личности… Я не набиваюсь в друзья, просто прошу разово составить компанию. Жизнь будет прожита зря, если ни разу не совершить что-то спонтанное. Ну да ладно. Если уж нет, значит, нет, – отпустив его худой локоть, я махнул рукой в прощальном жесте и улыбнулся, заметив печальный, растерянный взгляд.
– Эй! Погоди! Дай хотя бы ребятам напишу.
– Напиши.
– У меня репетиция, зал обыграть надо к выступлению. Можешь пойти со мной, послушаешь заодно. Хотел вроде? А там решим.
– Верное, очень верное решение, уважаемый Ингольд.
– Можно просто Лёд.
– Почему не Голд?
– Слишком очевидно, – и он, наконец-то, улыбнулся.
– Окей, Льдинка. Сердце твоё я растопил! Надеюсь, не зря.
– И откуда ты такой вылез-то. Странный.
– Оттуда, откуда и ты. Все люди вылезают из одного места.
– Пошляк.
– Не хуже, чем ты матершинник.
– Я ни одного слова матерного ещё не сказал.
– Но подумал!
– Это не в счёт.
– Знаешь, милый мой, не обязательно звучать слову, чтобы изменить реальность. Достаточно возникнуть мысли, и вуаля! Мир уже под неё подстраивается. Так что не хочешь засорять пространство – не думай о мусоре, не превращай мысли в говно.
– Кто ты там?
– Художник.
– Больше похож на доморощенного философа, видел, наверное, как они у подъездов по вечерам собираются, на бутылку скидываются, – ответно съязвил Ингольд, чем расположил меня к себе ещё больше. Рядом с ним какое-то время не будет скучно, а, может, даже интересно. Коль скоро мне тосковать в Москве, прикидываясь послушным исцеляющимся, то хотя бы какое-то развлечение придумать.
Я не буду рассказывать вам, как он играл на репетиции, как пробовал зал с удивительно сосредоточенным лицом и таким потусторонним взглядом, что я весь покрывался мурашками, когда пытался что-то в нём прочитать. А не буду потому, что чуть позже Лёд играл нечто невероятное, тронувшее моё сердце гораздо сильнее, чем репетиционные и заготовленные к концерту вещи. Тогда талант его раскрылся передо мной, словно ларец со сказками, и я уже никогда не смогу забыть ни тот вечер, ни то, что было после.

Глава 4. Лу Сантана.
Я часто упоминаю Копенгаген. Мне нравится этот городок, но возвращаться бы не хотелось. Познакомила меня с ним Элоиза, по-детски влюблённая в его двускатные крыши и сотни крошечных окон в белых рамах. Он и сам такой же крошечный: я бы прошёл его весь от одного конца до другого и даже не успел бы устать. Это вам не Москва с её дикими расстояниями, достойными самых дальних путешествий где-нибудь в сердце Европы. Уже тогда, кажется, год назад, мы с Эло обсуждали необходимость медицинской помощи – сам я не справлялся с подавленным состоянием.
У неё были небольшие дела в Дании, а я, как карманная собачка, отсиживался в гостиничном номере в ожидании хозяйки. Тоскливая, до тошноты унылая погода и слишком геометрически правильные сюжеты за окном, слишком вышколенные служащие, слишком стабильная жизнь, легко читающаяся на лицах прохожих даже с высоты третьего этажа, – убивали меня похуже творческого отчаяния поры позапрошлогоднего кризиса.
Эло… Моя прекрасная спасительница, женщина, которой можно каждое утро писать оды, – всё видела и понимала. По вечерам, возвращаясь из ресторана, где ей приходилось, конечно же, любезничать с представителями творческой элиты Дании, она набирала горячую ванну, полную блестящей пены, бросала на пол большое полотенце и, усевшись на него, поправ все приличия и не боясь испортить кутюрное платье, с вожделением смотрела, как я раздеваюсь. Это была наша любимая игра. Мы менялись ролями: Элоиза превращалась во властного и требовательного зачинщика, а я – в покорного и безвольного исполнителя. Её взгляды обжигали гораздо сильнее воды в ванной, но непременно перекрывались постыдным удовольствием, которое случалось испытывать. Я чувствовал себя глиной для лепки, добровольным рабом, и сознание моё словно отделялось от тела, со стороны наблюдая за плавными движениями, не скрывающими, а обнажающими желания и уже возникшее наслаждение.
О! Я снова отвлёкся. Но невозможно не вспоминать блаженство, укутывающее тело при погружении в маслянистую воду, пахнущую эфирами. Невозможно не думать о тёплых прикосновениях Эло, вселяющих веру в исключительность, – богини не снисходят до посредственностей.
Так вот, в то время, в те глухие две недели, я понемногу умирал. Душою. И Элоиза, видя меня таким, предложила сходить в человеческую библиотеку, которую курировал один из её деловых партнёров. Я мог побыть «разведчиком», не Троянским конём, но лазутчиком. Заодно появилась возможность развлечься.
Этим нехитрым путём и случилось мне оказаться перед лицом невозможно очаровательной, но крайне опустошённой девушки. Здание, где располагалась библиотека, имело непонятное для меня назначение: то ли огромный читальный зал с коворкингом, то ли какое-то другое публичное пространство, в котором можно было тихо сидеть, вести беседы или предаваться унынию, называемому необходимым отдыхом. Обстановка более чем скучная, навевала меланхолию и тоску, и я пытался развлечь себя тем, что в ожидании запрошенного экземпляра для разговора вытаскивал с полок книги, пролистывал и ставил обратно. Знать бы датский! Выходило только рассматривать обложки и догадываться о жанрах, да искать иллюстрации.
Я не надеялся ни на что интересное, изредка поглядывал на сероватые кресла-мешки у самого окна, выглядывающего на промозглую улицу, и не мог представить, как возможно разговаривать на тревожные темы с чужим, незнакомым человеком. В то время меня затягивала социофобия и страх перед знакомствами: достаточно было Эло и нашего узкого круга цыганщины, замаскированной под богему. Начало болезни вообще выглядело как типичная усталость и выгорание. Так что атмосфера этого мрачного датского дня соответствовала моему внутреннему состоянию и дополняла его безликостью библиотеки.