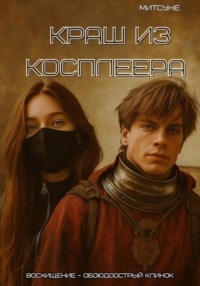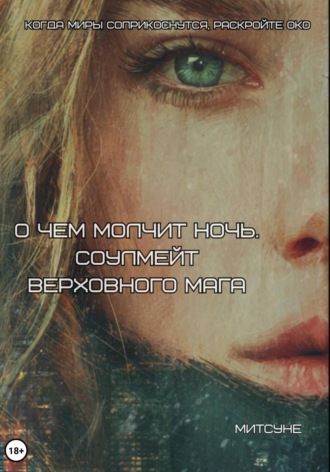
Полная версия
О чём молчит ночь. Соулмейт Верховного Мага
На удивление послушно, она сжалась в комок у него под боком, вцепилась побелевшими от напряжения пальцами в край больничной рубахи у него на животе и замерла.
А Стивен понял, что он безумен. Безумен едва ли не сильнее, чем она. Потому что боль потери собственного будущего, боль сожаления и скорби от невозвратно изуродованных рук в несколько раз меньше чем холодящий страх однажды уснуть и не увидеть ее. Свое продолжение в другом сосуде.
Глаза слезились и мир двоился, выкидывая в реальность и возвращаясь обратно, туда, где его всегда ждут. Где девушка с глазами летней сочной зелени твердит: «Все будет хорошо, Стрэндж, я люблю тебя, мы справимся, даже если ты меня возненавидишь…»
– Я излечусь. Я справлюсь. Я выживу и встану, чего бы мне это не стоило.
Часть восьмая, остросюжетная
Знаешь ли ты, что такое горе,
когда тугою петлей на горле?
Когда на сердце глыбою в тонну,
когда нельзя ни слезы, ни стона?
Вероника Тушнова «Знаешь ли ты, что такое горе»
Их так много…
Глаз, отравленных жалостью. Лиц, изуродованных сочувствием. Не было разницы, мнимым или реальным, лица были одинаковые.
Стивен пришел в себя резко, будто кто-то сверху щелкнул пальцами и выкинул его в реальный мир.
Рядом сидела Кристин, старающаяся не заплакать, с искривленным ртом и мокрыми ресницами.
На руки Стрэндж не смотрел. Он прекрасно разглядел и обдумал все во сне, где нет этих фоновых стенаний и робких заверений о чуде от врачей.
– Привет, все хорошо. Ты будешь жить.
Она кивала, убежденно или убеждающе? Невыносимо хотелось пить, правый глаз не открывался совсем, а левый слезился от обилия дневного света из окна. О да, света было большем, чем хотелось бы, потому как иглы, спицы, швы и огнем боли полыхающие руки были видны досконально.
– Что…что это такое? – не безысходность. Злость. Ужасная злость, что за криворукий идиот делал операцию? Что за кретин их зашивал?
– Тебя привезли вертолетом, но разыскивали слишком долго. Ушло драгоценное время для восстановления нервных тканей.
Вертолет. Вертолет он тоже помнил. Грохот лопастей вдалеке и отчаянные крики Сони, пытающейся докричаться туда, в реальность, где помощь так близко и так далеко. В самом вертолете ее, кажется, не было. Или была?
«Держись, Стивен. Только держись, хороший мой. Я все сделаю. Не сдавайся!»
– Что это такое? – он спросил это вслух? Но слова были не о руках, о воспоминаниях.
Ужасные обезболивающие, дурацкий наркоз и желание цепляться хоть за что-то важное для него в этом мире, чтобы не скатиться в бездну. Чтобы не впасть в уныние.
Он жив.
А Донна нет, и отец с матерью мертвы.
И Вик. Вряд ли бы он отказался заменить смерть на переломанные ноги, хотя, помниться, спортивная карьера была для него всем и тогда казалось, смерть милосерднее, чем потеря смысла жизни.
И вот он сейчас на том же перепутье, в том же месте истории, на котором мог бы оказаться брат почти двенадцать лет назад. Что он чувствует? Смерть и для него сейчас предпочтительнее?
– Вставлены титановые штифты. Двенадцать в общей сложности. Везде. В обеих кистях порваны связки, сосуды и нервы. Тебя оперировали одиннадцать часов.
Двенадцать, как иронично и вовремя. Прекрасное число, правда пальцев всего десять, хотя, кто знает. Если оперировали Никадимус и Уилсон, могли и пару лишних пришить, на всякий случай.
– И сотворили вот это?
Ирония. Ожидали ли ее?
– Никто не сделал бы лучше.
Почему то вспомнились тонкие пальцы, так неистово сжатые на его рубахе.
– Я сделал бы лучше. И она, но много позже.
***Мне не понять его никогда в жизни. Крики, вопли возмущения, ирония, сарказм, придирки. Всегда одна и та же реакция на меня – злость. Он злился всегда, и когда уставал и когда был раздражен неудачами или обрадован победами. Он злился, когда учил меня или гонял по тяжелой теме. Он злился, когда заставлял бороться за целостность собственной личности или когда она расколотая рвалась наружу поругаться с ним и поднять себе настроение. И эта злость, казалось, его серотонин в крови, его суть и квинтэссенция.
Тогда куда она делась?
Неужели, копилась на кончиках пальцев лучшего нейрохирурга и сейчас вытравилась сама собой.
Я вернулась к учебе, к радости родных, но отказалась от репетиторов. У меня был лучший учитель, хотя изменения в его поведении пугали своей неопределенностью.
Попытки отыскать депрессию, посттравматический синдром, да хотя бы послеродовую – успехом не увенчались.
Он был спокоен, ироничен, упрям и в чем-то жесток по отношению к себе и своему здоровью, но никогда ко мне.
Приходила я с книгами, раскладывая их на себе ровным слоем перед сном. Стивен подзывал поближе, прикрывал глаза и просил напомнить тему, чтобы начать муштру по прошлой и размеренно и умело объяснять следующую.
За это время я улучшила свою память, зрительную и письменную, поскольку все что писалось во сне, там и оставалось. Поэтому утром я просыпалась и записывала все что могла запомнить из пройденного с ним. Сперва приходилось сверять и переспрашивать, через день вносить правки, но со временем получалось запоминать все самое нужно с первого раза.
Было несколько операций, на которых я присутствовала, не позволяя себе страха или паники. Стрэндж лежал под маской, увы, лишенный радости наркозного неведения, поэтому заставлял меня рассказывать ему все, что я вижу. Врачей в наших личных снах не было, только результат их работы, только ход операции и кровь в реальном времени.
Стивен бухтел и возмущался. Боли он, слава богу, в таком состоянии не чувствовал, что открывало ему огромные перспективы по возмущениям и придиркам к своим мучителям и бывшим коллегам.
Я выучила его руки наизусть, до последней мелкой царапинки, косточки, шрамика и штифта. Ведь эти пальцы собирали по частям каждый раз на моих глазах.
Он не говорил о том, что происходит днем. Я вообще так поняла, что он угодил в ловушку ту же самую, из которой вытащила меня мама. Мир наших сновидений стал для него спасением, домом и больше реальным, чем дневные мучения в больницах.
Я говорила об этом с мамой, но та не могла помочь. Он же взрослый мужчина, сам прекрасно осознающий все последствия своих действий и, если такое положение вещей, пока что на стадии восстановления, дает ему необходимую поддержку, возможно, стоит просто подождать.
Чутко отслеживая его психологическое состояние, я слушала оговорки о результатах, тормошила, если он был слишком хмур и озабочен, включая в такие моменты непроходимую тупицу, которой требовалось по сто раз объяснять процесс работы лобных долей головного мозга снова и снова, гонять по тестам ЕГЭ туда и обратно и ругаться так, что в ушах звенело, а потом извиняться. ИЗВИНЯТЬСЯ! Передо мной!
Мир раскачивался и все привычные догмы рассыпались карточным домиком.
В его словах, жестах, поведении появилась нежность. Опека и забота отошли на второй план. Если был перерыв или мозг взрывался от обилия информации, он клал мне на плечо голову и делал вид, что дремал. Все же постоянные висячие распорки ограничивали подвижность и в целом радиус его действия.
Касаться другого человека была непривычно. Нет, не так. Меня обнимали родители, меня задевали в транспорте или в школе. Мне пожимали руку или отдавливали ноги в очереди. Но это, это было так интимно, что казалось постыдным и неправильным.
Поймите меня правильно, к почти восемнадцати годам я знала и понимала, откуда берутся дети. Прекрасно видела единение и любовь между родителями и осознавала, что брат мой или сестра, вылупятся не из яйца и процесс его (ее) развития – не партеногенез и не непорочное зачатие, в биологической сути своей составляющей почти одно и тоже. К себе же я этого никогда не применяла.
Дети меня всегда сторонились, и пока были детьми, и когда стали подростками, и когда начали вырастать в половозрелых прыщавых особей. Не задирали, как я уже говорила, по причине точного удара и драчливости моей второй половинки души. Но и интереса никто не проявлял. Вообще. Буйство гормонов в школьной среде с девятого по одиннадцатый класс проходило мимо, позволяя насладиться довольно веселым и интересным зрелищем дорамных трагедий, несчастных любовей и первого секса, восхваляемого, чуть ли не до небес, среди парней и частенько низвергнутого в неприятные ощущения среди девочек.
И да, я просмотрела пару раз порно. Чисто с исследовательской точки зрения. Не впечатлилась, передернула от брезгливости плечами и закрыла вкладку, удалив из истории. Фу, наверняка же далеко от сути и наигранно. Лучше уж не смотреть совсем!
Также, у меня не было травм связанных с отсутствием в жизни отца или его неадекватности поведения. Мой замечательный, любящий и любимый папа не пил, не буянил, не распускал руки, занимался спортом и носил нас с мамой на руках.
Поэтому Стрэндж, пилотирующий свой боинг на сближение с моим, вызывал стресс. Иначе и не скажешь.
Помимо этого, на носу висели экзамены, а у Стивена снятие распорок, которые бесили его до покраснения радужки.
И вот настал этот день, когда утомившаяся до чертиков я легла спать без книг, в надежде покемарить и во сне, ибо сил уже не было. Дайте мне отдыха!
Он сидел на стуле у окна, в пижамном костюме. Я даже сперва не сообразила, а потом хватилась и поспешила подойти ближе. За последний месяц так привыкла к его привязки к постели, что видеть мужчину вне ее еще один повод перетрусить.
Ну, куда вскочил? А если где-нибудь чего-нибудь разойдется, заболит или отвалится.
– Привет.
– Привет, – откликнулась я, выходя из полумрака. Честно говоря, палата эта уже опостылела изрядно. – Раз встал, чего сел? Не насиделся еще за месяц? Давай, подъем попки из кресла и шагаем по кругу, восстанавливаем форму и наращиваем мышцы. А то на Кощея Бессмертного уже похож.
Не оборачиваясь, он качнул головой и послышался явный смешок. Уже хорошо! Смеяться полезно для здоровья!
Поискав глазами стул, подтащила его поближе и села, выглянув в окно.
Красиво у них тут. Ночной Нью-Йорк. Когда-нибудь я поеду туда и увижу все своими глазами, не ограничиваясь давящими стенами комнаты и смогу вдохнуть ароматы города, даже если они будут так себе. Жаль только, в моем Нью-Йорке нет Его.
Насмотревшись на огни и вывески, на начинающийся на улице дождь, перевела взгляд на Стивена.
Тот смотрел на меня, четко, как прицел снайперской винтовки. Руки в тонких бинтах, совсем тонких, только слегка прикрывающих молодую кожицу, лежали на подлокотниках и тряслись. Сильно тряслись, особенно, когда он, видимо, вспоминал о них.
Лицо осунулось, лохматый такой, обросший, ни следа былого лоска. А еще слишком много антибиотиков и обезболивающих ему колят…но пока без них никуда. Итак, чудом не иначе, не случилось заражения крови, лишнего нагноения ран или еще чего поинтересней. Даже ампутации удалось избежать!
Завтра у меня забронированы билеты на премьеру фильма. Фильма о его жизни. Завтра я узнаю все, даже если это ничего не изменит…и даже, если изменит все.
– Чего? – я вздернула нос и склонила голову к плечу. – И не смотри так. Я сегодня не обучабельная. Устала, как собака. Ну, что? На мне неприличные картинки нарисованы? —
Почему он молчит? Нервирует. Пугает.
Голубые глаза при скудном освещении лишь от окна, казались черными и тревожными, как масляная пленка на озере нефти.
– Скажи, что ты реальна.
Выпрямилась и потрясенно вскинула брови.
– Раньше тебя это не волновало, – криво ухмыльнулась, скрывая растерянность. С ним я слишком уязвима. Слишком много его во мне, в моих мыслях и моей жизни. И все, что он знает может стать обоюдоострым клинком, вновь разрубившим меня на части. На две неравные доли, где одна замкнула и нелюдима, а вторая бесстрашна и неадекватна. – Как ты там говорил? Я твое Альтер эго?
– Ответь мне, Соня. Ты реальна?
– Более чем, – сдавшись, отозвалась я. – Была и всегда буду. У меня есть родители, младший ребенок в семье на подходе, поступление в перспективе. А еще нет друзей, зато шизоедное раздвоение личности в ремиссии. А что такое случилось?
Я вскинулась и посерьезнела.
– К тебе психолог приходил или психиатр? Птср диагностировали?
Он нехотя кивнул и сморщился, бросив взгляд на пальцы, сначала мои, потом свои. Я закусила губу и сердито цыкнула:
– Слушай их больше. Меня мама один раз отправила, так потом психологу нужен был психолог. Но если тебе будет легче, могу рассказать все свое детство, про родителей чего-нибудь, подробности их встречи, моего рождения, про семейные праздники, про трудности с социализацией в школе. Про Ленку из параллели могу рассказать, там такая Санта Барбара…
Стивен поднялся резко, я с перепугу тоже вскочила, боясь, что он упадет от таких внезапных перемещений.
– Куда?! – шаг вперед и держу его за плечи, но он стоит.
Надо же, время идет, а он все еще высокий такой, голову вверх поднимать приходится, чтобы в лицо посмотреть. Макушкой сейчас хотя бы до подбородка ему достою, а не как раньше, до груди. Вымахала я за три года.
– Эй, кузнечик, ты куда скачешь? Ляпнуться захотел лицом вниз?
Но он стоял. Стоял прямо и уверенно, не спуская взгляда с моего задранного лица.
– Ты реальна. Для меня реальна, но имею ли я право тянуть тебя за собой на дно?
Трясущаяся рука прошлась по моим волосам не пальцами, а лишь слегка задев запястьем. Он плохо владел ими, особенно сейчас, после столького времени неподвижности. Наверняка, все закостенело.
– На дно? – я усмехнулась. – Что ты знаешь о дне, Стивен Стрэндж? И зачем ты туда собрался? Лично я собираюсь плыть только вверх, только к солнцу. И ты обещал выплыть. Разве нет?
Взгляд его прояснился на долю секунд, а потом вдруг снова потемнел, но как-то по-другому. Стивен качнулся вперед и моих губ коснулись его. Сухие, шершавые от корочек, с бугорками от снятых швов на левой стороне.
От неожиданности хотела дернуться назад, но его руки толкнули меня под лопатки, почти впечатывая в жесткое неустойчивое тело. От удара мы оба покачнулись, и я схватилась за его рубаху на плечах.
Поцелуй. Мой первый и пока единственный. Какой он?
Пах больницей и лекарствами, а еще мокрый. И носы не мешают, даже не знаю почему. Просто сердце колотится все быстрее, а кровь прилила к голове и та слегка закружилась. Воздуха не хватает, а наши губы спаялись, как края заживающей раны, вмялись, сдавились и рот невольно приоткрывается.
Когда горячий язык коснулся моего, меня будто молнией прошило до самых пяток. Прикосновение к небу, невольная ласка, будто хочет погладить и зубы соприкосаются…так необычно. И совсем не так как в книгах или фильмах.
Мне жарко, я задыхаюсь, я умираю от непривычных тактильных ощущений. А еще чувствую его вкус, от которого пульс убыстряется и начинает отдавать где-то внизу живота. Никогда не думала, что помимо личного запаха у него есть еще и вкус: острый, пряный, соленый и совершенно разрушительный для психики.
Тут даже моя шиза помочь не могла, она плавилась вместе со мной, она вплавлялась в меня и становилась мной, а еще немного им, потому что выжить теперь без этих ощущений я не смогу никогда. И это отрезвляло…
Что ты делаешь Стрэндж? ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?!
Дернувшись всем телом, оттолкнула его, не успев испугаться. Он почти упал, но поясницей уперся в подлокотник и не рухнул назад в кресло, лишь слегка согнулся.
– Что ты делаешь?! – крикнула я, схватив себя рукой за горло.
Разве он не понимает? Разве не может осознать, какое зверство, какую откровенную жестокость совершает?
– Как ты мог? Я как теперь должна жить в мире, где нет тебя, как? Как смотреть в лица других мужчин и хотя бы подумать о семье с ними?! На живую, без наркоза! Стивен!
– Я найду тебя. Сколько нужно проехать стран? Сколько обойти городов? Сколько посетить континентов, чтобы забрать тебя?
Я вцепилась обеими руками в собственные волосы, изнутри все клокотало от восторга и ярости. Отвернувшись от него, выпустила пряди и оперлась ладонями и лбом о холодное стекло окна.
Остудиться, остыть. Мне же говорили, что нельзя менять или сбивать его жизнь. Какие прекрасные вещи я слышу от него, и как они отвратительны. Казалось, от каждой его потребности в моем присутствии поползли по спине ядовитые муравьи, стремясь прорваться к сердцу.
– Не важно, сколько это займет времени. Договоримся так я пройду реабилитацию, восстановлюсь и возьмусь за поиски. Что тебя пугает? Я сам поговорю твоими родителями. Где ты живешь? В какой университет поступаешь? Ты так смотришь на Нью-Йорк, как на мечту, значит не была здесь и речь и обороты. Сможешь намекнуть? Есть здесь такие ограничения?
– ТЕБЯ НЕТ! – рыкнула я, ударив руками по окну, а потом сжала ладони в кулаки. – Тебя нет в моем мире! Ты кино! Ты персонаж комиксов! Ты чертов несуществующий в реальности киногерой! Я завтра иду на премьеру фильма «Доктор Стрэндж»!
Руки, плохо гнущиеся, наверняка, очень болезненные в прикосновении, рванули меня, заставляя обернуться. Я даже мимоходом отметила, как по моей футболке на плечах потекла красная кровь. Его кровь, из открывшихся ран.
– Ненормальный! Тебе же больно! Отпусти меня!
– Повтори, что ты сказала! – глаза его горели лихорадочным блеском, нездоровым, опасным и… обреченным. Он уже видел, что я не вру, но не хотел этого признавать.
– Тебя нет в моей реальности! – крикнула я ему в лицо и скинула с себя болезненный для обеих захват.
Стекло холодило затылок, обжигало холодом лопатки сквозь тонкую ткань пижамы и мне очень захотелось, чтобы оно вышло из рамы, чтобы треснули крепежи и чувство свободного полета унесло меня от этого зрелища.
Опустошение. Проблеск безумия, опущенные вдоль тела руки, по кончикам пальцев которых медленно стекают красные капли, собираясь на синюшных отбитых в аварии ногтях. Промокшие повязки, разводы на штанинах по бокам, влажные и чуть припухшие губы от нашего поцелую на совершенно белом лице с черными воронками вместо голубых глаз.
– Я не верю тебе…
Закусила губу, чтобы хоть так не трясся предательский подбородок.
– Это правда. Я знаю о тебе все, о будущем, о прошлом, о настоящем. Я читала десятки комиксов, я до дыр затерла трейлер фильма. Я только не знаю, каким путем пойдет история твоей жизни сейчас, раз ты настоящий и существуешь, если это не моя болезнь прогрессирует. Мама сказала, что мне нельзя вмешиваться, подсказывать, помогать. Но все уже смещается! Ты должен быть сломлен потерей рук! Ты должен ненавидеть себя и окружающих, спускать деньги на методики и операции! Ты должен стремиться лишь к излечению! – голос снова сорвался на крик. – Ты должен быть сломлен!
– Я сломлен, – ответила мне бездна. Он облизал пересохшие губы и не отрываясь смотрел на мое лицо. – Я сломлен, Соня, тобой.
Ноги дрогнули и подогнулись. Я сползла на пол по стеклу, за которым разбушевалась гроза, и вспышки молний белыми бликами освещали стоящего напротив мужчину.
– Пожалуйста… пожалуйста… – о чем я просила? Забрать эти слова назад? Выровнять свою жизнь и не пытаться меня приблизить к себе. Не рвать душу тем, что несбыточно?
– Нет.
Нет что? Он слышит мои мысли?
– Что нет? Что ты творишь? Кто я для тебя? Четырехлетний затянувшийся кошмар! Что важнее, я или твое здоровье? Я или твоя жизнь? Я или карьера того, кто спасает десятки, сотни безнадежных больных в год?
Он приподнял руки, согнув в локтях и, глядя на них, будто впервые увидел, жалкие, изуродованные, дрожащие и мокрые от крови в набухших повязках. А потом перевел взгляд на меня.
Шаг, еще шаг.
Я полулежу у окна без сил, только смотрю и голове так холодно, но она касается стекла, а сердцу отчего?
Ноги его останавливаются по обе стороны от вытянутых моих, на уровне икр и Стивен Стрэндж опускается на колено, почти оседлав мои бедра, но не позволяя себе перенести весь вес тела на женщину под ним.
И подсыхающая кровяная корка на костяшках лопается при попытке согнуть пальцы, отвести темные пряди от моего лица и привлекая к себе внимание. Он наклоняется, касается лбом моего лба и дышит. Шумно, с надрывом, как хищник перед прыжком.
– Я верну себе руки, а потом и то, что принадлежит мне по праву.
Мой! Всегда мой! Мне его подарили! Мне его обещали! Плевать на последствия.
Я тянусь вперед, рывком обхватываю его за шею, отчего мужчина теряет равновесие и падает вперед, с небольшой задержкой перекатываясь на спину, увлекая вцепившуюся меня за собой.
Это было помешательство.
Мы лежали на полу возле окна, в больничной палате, под грохот грозы и шум воды, в несуществующем мире сна и целовались как безумные. С рычанием, неприличными и такими правильными стонами. А еще сумашествием, одним на двоих.
Это и есть любовь? Такая же больная, как и я?
Часть девятая, охватывающая
Вот звук обмана бодрящего сна,
Вот видны тени ночных фонарей.
Любви ненасытной хватает сполна,
Чтоб поглотить темной страстью людей.
Михаил Мишаня Кузьмин «Темная Страсть»
Месяц тянется и тянется. Отвратительно. Долго. Удушающе, как медленно стягивающий свои кольца питон, который уже примерился к добыче и выжидает, чтобы не спугнуть пугливую дичь.
Реальность именно что затягивала на шее Стивена свои петли, и, если бы не сны, он бы действительно тронулся.
Как он раньше не замечал, что в больнице так неуютно. А ведь ранее считал ее своим вторым домом, операционную мастерской, а палаты кельями последователей и благодарной паствы. Действительно, здесь Стрэндж ощущал себя богом, творцом, всемогущим и непревзойденным. До тех пор, пока не оказался по ту сторону.
От лекарств уже болит желудок, антисептики воняют и обжигают слизистую, место крепления катетера приносит столь сильный дискомфорт, будто вена изнутри пересохла и тонкая пластиковая игла царапает сосуды изнутри. Что уж говорить о последствиях аварии? Руки он если чувствовал, то почти выл и катался от боли по палате, только на остатках гордости и самоуважения не позволяя себе подобного поведения. От обезболивающих горчило во рту, сознание путалось, кружилась голова, тошнило и постоянно клонило в сон.
Думать о будущем не было сил. Да и какое будущее? Первые дни он будто в гробу лежал, а не в палате, хороня в душе себя прежнего, вынашивая и выстраивая обиду вместе со стеной, отрезающей его от всех знакомых, которые заглядывали поговорить, выразить сочувствие, уверить в чуде. От них тоже тошнило, настолько, что тазик частенько пополнялся скудным содержимым желудка.
Спасали сны. Спасала, его прежде доставучая, невыносимая и обременительная девчонка с синими волосами.
При ней он не сдерживался никогда и не надевал маску ни разу в жизни, потому что раньше и за человека не считал, так, сбой собственной психики, не стоящее трудов по самоконтролю. Теперь же…женщина, которой все равно в каком он настроении, в каком он состоянии. Она не сидит, скорбно сложив руки на коленях и не лепечет что-то о прогрессе, регенерации и том, что надо ждать. Соня просто тряхнет головой и выскажет, где он не прав и где она видала его упадническое настроение. Она беспардонно лезла рассматривать шрамы, цокала и восхищалась работой сделавшего это, сетовала на то, что ему неблагодарному уделили столько времени и сил и вообще, нужно было просто отрезать их не мучиться с некоторыми гордецами.
Для нее Стрэндж не был тем, вокруг кого нужно ходить на цыпочках. Пережив свой первичный страх за его жизнь, она вновь сделалась невозможна, упряма и не сдержана на язык.
И это было прекрасно. Он будто действительно говорил не с другим человеком, а с собственным честным и оптимистичным Альтерэго. Не надо прятаться, не надо претворяться. Тебя не осудят и примут в любом состоянии, где-то не считаясь с чувствами.
А чувств становилось все больше каждый день. Нет, каждую ночь. С ней он вновь был востребован как специалист, как профессионал, как человек который знает много и может этим поделиться.
Соня хотела стать врачом, обладала цепким и гибким умом, впитывала все как губка и не стеснялась переспрашивать, не боялась выглядеть глупо и, если ее что-то заинтересовало, вцеплялась не хуже энцефалитного клеща. Почему энцефалитного? Потому что тоже потом в реальности его мутило и болела голова от перенапряжения.
Все чаще посещали мысли о том, чтобы пойти преподавать. У него же столько знаний, он не перестал быть врачом, не ушли в небытие годы учебы, практики и ясность мышления. Он по прежнему может быть часть сообщества, может взрастить ни одно поколение замечательных врачей, учредить стипендию имени себя и стать вполне достижимой мечтой для сотен студентов, таких же, как когда-то он, жадных до знаний и ни в меру тщеславных.
К примеру, его Софи. Да. ЕГО! СОФИ! Пусть только поступит, перевестись она всегда сможет. Он слетает, поговорит с ее семьей, оплатит переезд, поможет с учебной визой. Заселится она в общежитие, начнет карьеру под его началом и будет рядом. В обиду он девушку не даст. А потом…нужно же подождать, пока она подрастет.