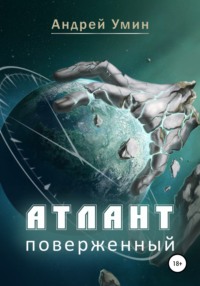Полная версия
Киберрайх
Это уже не часть плана.
– Надо его выводить! – мысленно кричит Гай.
– Я пытаюсь! – шепчет в ответ оператор.
В реальном мире распластанный в кресле Арнольд Дейч начинает махать руками и переключает регулятор частоты на шлеме сидящего возле него Кима Филби. Последнее, что видит Ким, – содрогающиеся образы Дейча и двух своих друзей, которые пытаются успокоить его перед выходом из симуляции. Комната в концлагере разрывается вместе со временем и пространством, и глазам Кима предстает странная бревенчатая изба с красным стягом в углу, портретами Ленина и Сталина на стене и большой русской печью. Напротив Кима плывет образ девушки, которую он никогда не встречал, а потому не может обрисовать ее точный портрет. Он ощущает ее пока только чувствами. Эмоциональный отпечаток красавицы всей своей трудовой мощью ложится на испуганное сознание Кима. Его собственные нейроны находят в образе что-то близкое и даже родное, чего не хватало в реальности, но к чему парень всю жизнь стремился. Довершает картинку голос девушки, словно материализующийся из мягкого русского воздуха.
– Помогите! – стонет она.
– Кто ты?
– Вера. Мои родные…
Привыкший смотреть в одну точку Ким начинает оглядываться по сторонам. Образ избы и печи ожидаемо перемешивается с флагами и вождями, но это не мешает опытному кибертуристу разглядеть трупы людей на полу. Вся изба завалена их хотя и коммунистическими, но очевидно мирными телами, и это повергает Кима в еще больший шок. С улицы слышится привычная за год оккупации немецкая речь. Фрицы явно что-то замышляют, и вот уже окна облизывают языки пламени и стекла трещат, как щепки.
– Вы разве не видите, что происходит? – рыдает девушка Вера. Ее английское произношение сурово, как голос «Московского радио», вещающего за рубеж.
– Я… Я… Вы в России?
– Да. На Смоленщине.
– Но как?.. Разве Сталин не запретил кибернетику?
– Запретил. Нашу страну не накрыли виртуальные развлечения, и Геббельс не смог промыть нам мозги, как остальным европейцам. Поэтому наш народ сражается, – говорит Вера. Пламя уже окутало всю избу. Это такой виртуальный образ штурма запретной комнаты цифровым гестапо. – Но мы в зоне оккупации, а здесь внедряется Киберрайх. Вот откуда у нас ки-шлемы.
– Кто вы? Вас много?
Судя по огню, времени чертовски мало. Ким машинально пытается посмотреть на часы, но его рука аморфна и ничего, кроме буйства горящих красок, этот выпад не вызывает. Его начинает подташнивать.
– Раньше нас было много, – вздыхает Вера. – Теперь почти все убиты или отправлены в концлагеря. А я блуждаю между частотами в поисках помощи.
Ким растерян. Счет идет на секунды, да и товарищи по английскому братству уже пинают его по ногам. У них явно что-то стряслось. Может, этот огонь – не осада Вериного рума, а штурм зала виртуальной реальности в Кембридже? Самый настоящий, реальный штурм. В пользу этой теории говорят крики и грохот падающих кресел на периферии сознания. Может, поэтому оно и рисует огонь, ведь это самый простой способ уничтожить избу, а значит, и всю фантазию? Таким образом инстинкт самосохранения пытается закончить сеанс связи. Все происходит крайне логично, по правилам настоящего сна.
– Разве они не заставляют вас работать на заводах, пуская взамен в Киберрайх?
– Что? Нет! Мы лишены этой участи. Они истребляют всех, понимаете? Несметные концлагеря от Днепра до Рейна. Вы англичанин, ведь так?
«Поняла по моему идеальному кембриджскому», – успевает подумать Ким на почве появившегося в студенческие годы непримиримого соперничества с Оксфордом.
– Расскажите своей общественности про концлагеря! Расскажите американцам! Покажите им наше видео, – продолжает Вера. – Вы производите для немцев оружие! Мы не можем сдержать их орды! Хотя бы не помогайте им, я прошу! А лучше встаньте и бейтесь!
Ким чувствует, как кресло уходит из-под него, а потом он больно падает на пол. Чьи-то руки собираются стянуть с него шлем.
– Ждите меня, Вера, я вернусь за видео! – кричит он. – На какой вы частоте?
– 3058 на 2100, – отвечает она, и мысли парня захлопываются.
С него так резко срывают шлем, что он теряет сознание, а сердце на пару секунд замирает. Не зря техника безопасности требует медленного выхода из мира грез. Именно поэтому в каждом зале находится оператор виртуальной реальности. Но в данный момент оператор, а по совместительству друг Кима Филби занят отключением электричества и уничтожением документов, способных вывести на их след. Дональд Маклейн в порыве моральной ответственности за еврея, которого приютил, закрывает собой Арнольда Дейча и, прячась за колоннами, ведет его к черному выходу, а Гай Берджесс пытается привести Кима в чувство, попутно сооружая из кресел непреодолимый для фрицев барьер. Звуки стрельбы, сначала тихие и далекие, нарастают по мере возвращения Кима в сознание.
Самые стойкие посетители виртуальных миров быстро приходят в себя и разбегаются кто куда, а некоторые, отключенные так же резко, как Ким, пытаются заново осознать свое место в жизни, корчатся на полу, как переродившиеся индуисты. Но Гаю плевать на них, кроме короткого шока, с ними ничего не будет, в отличие от общества заговорщиков, которых неожиданно выследили.
– Давай, дружище, вставай! – рычит он, вытаскивая Кима из затерянного пространства между мирами.
Тот пытается сфокусировать зрение и лишь бормочет:
– 3058 на 2100, – повторяя это раз за разом, как мантру.
Конечности, к счастью, слушаются, и он инстинктивно следует за своими убегающими друзьями по лабиринту из перевернутых кресел и поваленных шкафов с оборудованием. Брошенные в одну кучу ки-шлемы тоже представляют собой препятствие для преследователей.
Почти у самого выхода вся пятерка беглецов резко останавливается.
– За дверью засада! – приходит в голову Энтони. – Они заманивают нас в ловушку! Гонят, как бладхаунды на засевших в кустах охотников! Давайте по ступеням наверх!
Едва они поворачивают на лестницу, из дверей черного хода появляются жнецы с вотчдогами на поводках – жуткое зрелище, если столкнуться с ними лицом к лицу, а на это и был расчет. Но благодаря чудесной смекалке Бланта беглецы видят их лишь краем глаза и не так сильно пугаются. Они успевают подняться на мансарду библиотеки со вторым светом, с которой виден весь зал виртуальной реальности – внизу десятки перевернутых кресел и баррикады из высокотехнологичного оборудования, куча потерянных виртоманов, слишком резко лишившихся шлемов, и толпы нацистов, обученных убивать. Картина может заворожить, если на нее долго смотреть, поэтому испуганные беглецы стараются не встречаться взглядами с фрицами. Они опрокидывают пылившееся на втором этаже резервное оборудование и баррикадируют лестницу. В дальнем конце мансарды – окно на соседнюю крышу. Метров пятнадцать, но гандикап есть – наци не могут с наскока преодолеть заслон.
– Давайте сюда, скорее! – кричит Энтони Блант. Он знает бывшую библиотеку как свои пять пальцев, поэтому отрывает ржавый оконный шпингалет, вместо того чтобы безрезультатно пытаться его открыть. В лицо тут же ударяет свежий уличный воздух.
Пятеро нарушителей остаются непойманными уже добрую минуту – непозволительно долго для гордых арийцев, и те начинают нервничать. Типичного для таких ситуаций приказа брать живыми не поступало, поэтому самые безжалостные нацисты стреляют по беглецам.
– Осторожно! – Ким Филби пытается перекричать грохот выстрелов, чтобы предупредить своих друзей о стрельбе. Но они и так поняли.
Очередь из автомата MP-40 рисует на потолке мансарды кривую линию, похожую на часть интеграла. Но до идеального геометрического этюда ей не хватает одной пропущенной дырки – какая-то пуля угодила куда не надо.
Дональд и Гай уже выбрались из окна, и в тот момент, когда Энтони помогал сгруппироваться нескладному Арнольду, чертова пуля прошила спину Дейча и застряла где-то в груди. От шокового удара он широко раскрывает глаза и пытается не потерять сознание, абсолютно не понимая, что с ним произошло. Ким и Энтони отчаянно что-то орут, но их слова пролетают мимо гаснущего внимания Арнольда. Его берут на руки и героически выносят на крышу. Когда гестаповцы взбегают на второй этаж, окно уже закрыто и прижато снаружи какой-то трубой.
– Быстрее, до края крыши! – командует Энтони срывающимся на истерику голосом.
Трясет всех. Четверых англичан от ужаса, еврея – от разливающейся по телу боли. На середине пути он начинает захлебываться кровью, словно тонет в собственном соку, и это очень плохая новость.
– Ты как, протянешь? – пытается сделать хоть что-нибудь Ким.
Но Арнольд отвечает лишь кровавым плевком изо рта.
– Чертовы наци! – не может сдержаться Гай. – Ему нужна помощь!
– Сначала надо спуститься, – берет себя в руки Блант. – Вон туда! Скорей!
Одноэтажная Англия скрывает своих сыновей. Та самая черепица, по которой они бегали школьниками и, может быть, даже студентами, позволяет быстро уйти. Под пологом осеннего вечера беглецы преодолевают целый квартал по крышам, усаженным печными трубами, и за считанные минуты покрываются спасительной сажей. Теперь их и мать родная не узнает. Они спускаются в кусты, выходящие прямо на Милтонс Уолк. Кругом патрули с фонариками и собаками прочесывают округу.
– Надо в больницу! Срочно! – не может совладать с собой Гай.
Его черный от копоти рот закрывает такой же черной рукой Маклейн.
– Тише! Хочешь, чтобы нас четвертовали? Мы теперь в розыске, какая больница!
Ким и Энтони держат теряющего сознание Арнольда, пытаются заткнуть дыру в его спине. Впрочем, из нее ничего не вытекает – пуля прошла идеально между ребер, аккуратно их раздробив и позволив им заткнуть отверстие, поэтому самое страшное сейчас происходит не в месте ранения, а глубоко внутри Дейча.
– Нас вот-вот выследят! Надо где-то укрыться! – взывает к здравомыслию Блант.
– Колледж Святой Троицы, – приходит в голову Киму. – Помните подвал, где мы прятались от учителей?
– И ни одна живая душа не могла нас найти! Давайте туда. Скорее! – с яростным надрывом шипит Дональд.
Они выжидают подходящую паузу между двумя патрулями и как могут бегут с раненым через небольшой сквер. Прячась за деревьями и кустами, выходят к достопочтенной Кинг-стрит, пробираются на Джесус-лейн и, несмотря на то, что они атеисты, Иисус помогает им добраться до подвала Тринити-колледжа возле того самого места, где триста лет назад на голову Ньютону упало яблоко, искусившее его создать современную физику.
Наощупь они пробираются по темному подвалу, очищая затертые временем воспоминания о своих приключениях здесь. Рефлекторная память позволяет им быстро освоиться в чертогах под храмом, где ничего за десять лет не изменилось. Ким и Дональд сажают раненого на один из стоящих у стены ящиков и пытаются удержать его в удобном положении, если это понятие вообще применимо к захлебывающемуся собственной кровью человеку. Глаза привыкают к льющемуся из подпотолочных окошек лунному свету, и всем становится виден масштаб проблемы.
– Вы как? Протянете минут двадцать? – спрашивает Ким. – Надо дождаться, когда патрули прочешут эту местность и рассеются по городу.
Вместо ответа изо рта Арнольда выплескивается очередная порция крови. Даже несмотря на мрак и покрывшую беглецов печную копоть, заметно, как Дейч побледнел. Глаза закатываются, а тело мякнет.
– Держись! – шепчет кто-то из англичан.
Но Арнольд не может дышать – чертова пуля пробила артерию в легком.
– О нет, нет, нет… – Ким первым начинает понимать весь творящийся перед ним ужас. – Это невозможно! Так не бывает!
Остальные тоже осознают действие неподвластного разуму рока. Дейч перестает сражаться с судьбой, и его голова безвольно падает набок. Еще минуту четверо англичан неподвижны, не могут поверить своим глазам.
Потом они возвращаются в реальность, и в уши бьет звенящая тишина, изредка разбавляемая криками патрулей. Энтони проверяет подвальную дверь, почти сливающуюся со стеной. Если не знать, где вход, никогда в жизни не попадешь в этот подвал.
– Ну, хотя бы не придется искать больницу, – вздыхает Дональд. – Можем пересидеть облаву. – Он мечется из стороны в сторону и добавляет: – Арнольд был свидетелем существования концлагерей! Он столько всего пережил, чтобы все равно умереть от руки нацистов! Как мы теперь откроем глаза англичанам и американцам на зверства рейха? Это был наш единственный свидетель…
Ким задумывается о терзающих его мысли цифрах 3058 на 2100, которые не отпускали его всю дорогу, и его озаряет.
– Вера! Та девушка из России! Она тоже знает про концлагеря. Она в оккупации и может переслать нам видео.
Все задумчиво смотрят на него.
– Хорошая мысль, – кивает Энтони. – Только для этого надо выйти в Киберрайх, а наши слепки теперь в черном списке нацистов. Подключаться из общественных мест больше нельзя!
– Как они вообще нас выследили? – спрашивает Гай Берджесс.
– Ума не приложу. Возможно, научились искать следы взлома. Ладно, в больницу спешить не надо, значит, переночуем здесь, а завтра навестим Алана. Без него путь в Киберрайх нам заказан.
– На завод тоже лучше не соваться, – соображает Ким. – Теперь мы окончательно вне закона.
Некоторое время они пытаются успокоиться и настроиться на сон в одном помещении с мертвым человеком. Не у всех это получается, и приходится выжидать, пока уровень адреналина в крови снизится. Чтобы убить время Гай подходит к низкому окошку в приямке подвала и смотрит на высаженное в честь Ньютона дерево.
– Такая же яблоня триста лет назад помогла сэру Ньютону создать науку, какой мы ее сегодня знаем.
– К чему это ты? – нервно бросает Дональд.
– Да вот думаю… Каким выглядел бы наш мир без научных прорывов? Ведь были моменты, когда судьба человечества зависела, к примеру, от одной пули.
– Опять ты про свою теорию, – отмахивается Ким. – Про дуэль Галуа?
– Именно! Попади пуля на пару сантиметра правее, гениальный математик погиб бы в свои двадцать лет, а значит, не помог бы Бэббиджу с первым в мире компьютером, не женился бы на первой женщине-программисте, а их гениальный сын не создал бы эти кристаллы. Не появились бы «Эварист-1» и «Эварист-2», мир не стал бы таким «прекрасным», – Гай рисует в воздухе кавычки, – а значит, не стал бы таким ужасным. Кто знает, как все могло бы повернуться?
– История не терпит сослагательного наклонения, – разводит руками Энтони. – Давайте уже поспим, а поздней ночью, когда внимание патрулей ослабнет, направимся к Алану. Помощи искать больше негде.
Глава 2
1832 год. Весна, обычно долгожданная и приносящая новую жизнь, в этот раз не предвещала Парижу ничего хорошего. По одну сторону от узкого и крайне опасного жизненного пути обычного человека того времени свирепствовала эпидемия холеры, по другую – тлел пожар революции. Республиканцы справедливо считали короля причиной всех своих бед и боролись с ним всеми средствами, изнывая от бессмысленно потерянных после свержения Наполеона лет. Пусть война и не гремела на улицах, как в 1789-м, но полыхала в умах особо яростных революционеров. Молодые французы, не считаясь с возможным риском, решительно вставали на пути догнивающего роялизма. Но король еще правил страной, и окружающие государства его поддерживали. Заботливые соседи реставрировали Бурбонов, чтобы не дать французам вновь поднять головы. Какой молодой человек с текущей в его жилах кровью галлов в состоянии с этим смириться? Вот то-то же.
Ряды ревностных республиканцев были неисчислимы, и о большинстве из них можно сказать как много хорошего, так и много плохого, но самым примечательным из них, без преувеличения, был двадцатилетний Эварист Галуа. Он только что отсидел срок за ношение оружия во время митинга и полный новых надежд вышел из каземата на опьяняющий воздух свободы, которой рано или поздно дождется вся Франция, как дождался ее Эварист. За проведенные в тюрьме полгода он упорядочил свои теории групп высшей алгебры и попробовал найти в себе силы в третий раз попытать счастья на конкурсе в политехнический институт. Два прошлых года ему трагически не везло – то профессор не смог понять юного гения, то доктор наук потерял его утвержденную и допущенную к конкурсу заявку. А тут еще травля и последовавшее за ней самоубийство отца в корне подорвало моральное состояние всей семьи. Участие во многочисленных манифестациях сделало Эвариста заклятым врагом роялистов, и на каждом шагу его могли поджидать проблемы. Не уйдет далеко от истины тот, кто скажет, что Галуа досталась несчастная, безрадостная судьба. А ведь при взгляде на него казалось, что он достоин чего-то большего.
Всем известен образ роковой соблазнительницы, красивой девушки, от которой невозможно оторвать глаз, которой безропотно поклоняются и жертвуют всем ради нее. Несмотря на то, что в жизни в равной степени представлены оба пола, мужской и женский, такой ярлык пристал именно к женщинам – из-за хитрости и беспринципности некоторых из них. Но красивыми бывают и юноши. Галуа в полной мере можно было назвать привлекательным и элегантным, словно сошедшим со страниц модного парижского revue. Его прямые, словно отточенные скульптором черты лица гармонировали с волнистыми, небрежно уложенными волосами. Это был тот самый случай, когда напускная небрежность во внешнем виде привлекала гораздо сильнее дотошной ухоженности во всем. Он был, что называется, живым молодым человеком, со взглядом Джоконды – уверенным и загадочным, ясным и проницательным, ведь помимо внешней привлекательности юноша имел внутренний шарм, который только усиливался его выдающимся интеллектом.
Такие вот прекрасные вводные данные и такая трагичная судьба. Но жизнь ведь всегда дает второй шанс, ведь так? В его случае третий… или уже четвертый, смотря как считать. Этой весной Эварист познакомился с медсестрой Стефани Дюмотель. Красотка из уже описанной выше касты сердцеедок пленила его душу, вынудила на время забросить алгебру, но вместе с этим вдохнула в него новую энергию. К сожалению, как часто случается, двадцатилетние не могут совладать с этой великой силой, и хорошо, если не расшибаются вдребезги, ведь иным везет и того меньше.
Сообразно всем прошлым событиям в жизни Галуа эта любовь тоже оказалась трагичной. Девушка его не только бросила, но и унизила. Просто потому, что могла. Такое вот удивительное создание.
Более того, мадемуазель Стефани оказалось недостаточно растоптанного сердца Галуа, и она столкнула его с неодолимой силой в лице компании роялистов. Опять-таки потому, что могла. Негодяи спровоцировали дуэль и 30 мая встретились с ним на берегу пруда, под тенью парижских вязов, согревающихся в последних лучах заката. Заходило одно солнце, и вслед за ним готовилось зайти второе. Галуа был обречен. Грохот выстрела нарушил покой местных птиц, и они с недовольством полетели на север в надежде найти более тихое место для сна. Пуля 12-го калибра пробила левый бок Эвариста. Проходя навылет, она задела крупную вену. Перед дуэлью юноша предусмотрительно снял сюртук, чтобы младшему брату досталось хоть какое-то наследство, поэтому поток крови на белой сорочке был заметен издалека, прямо как извержение Везувия, которое в те же дни писал Карл Брюллов.
Прощальные лучи солнца осветили побагровевшую одежду юноши, прежде чем он упал. Обидчики бросили его обмякшее тело в сторону, чтобы не так бросалось в глаза с дороги, и, насвистывая песнь про короля, удалились в закат. Через какое-то время они погибнут всё из-за той же Стефани Дюмотель, но это уже совсем другая история.
Пройди пуля в двух сантиметрах правее, она разорвала бы кишечник и идущую возле него артерию, но все обошлось. Она лишь задела брюшные органы и повредила селезенку. На земле возле юноши стремительно увеличивалась липкая черная лужица. Шоковое состояние не позволило ему двигаться, а вскоре он провалился в забытье из-за потери крови. К счастью, она исполнила свою биологическую задачу и закрыла прореху в вене, состояние немного стабилизировалось. Это помогло юноше дожить до утра, когда его и нашел местный фермер.
Галуа доставили в госпиталь Бруссе на юге Парижа, зашили рану, перевязали и целый день отпаивали водой и медицинскими снадобьями. Он прошел по лезвию бритвы, заглянул в глаза смерти, балансируя на самой грани, но несколько капель крови на спасительной чаше весов перевесили все потери, и через пару дней юноша выкарабкался. Уже через неделю он мог вставать, хотя у него и был постельный режим. Его отпустили домой, в семейную квартиру на улице Бернарден почти в самом центре Парижа.
Мать обняла своего самого любимого в жизни революционера и не могла сдержать слез.
– Все хорошо, maman, – кротко сказал Галуа. – Впервые в жизни мне повезло.
Неудачи в любви и смерти слегка отрезвили юношу. Разумеется, он не перестал быть республиканцем, но начал ценить свою жизнь чуть больше. Никто не мог назвать его малодушным, он доказал всем свою храбрость – срок в тюрьме за гражданские принципы и участие в заведомо проигрышной дуэли сделали его настоящим мужчиной, и теперь свойственный всем молодым людям страх прослыть трусом не отягощал безрассудством его дальнейшие жизненные решения.
К концу июня он уже начал гулять от дома до набережной Сены, откуда открывался прекрасный вид на Нотр-Дам. Торговые лодочки с одними и теми же рулевыми каждый день преодолевали один и тот же маршрут, символизируя собой не только круговорот жизни, но и человеческое смирение перед ее всевластием.
Доказав себе все, что следовало, Эварист вернулся к идее доказать свои математические теории снобам из Парижской академии. Он подробно описал выкладки о теории групп, добавив к ним объяснения для «заурядных» профессоров, и лично отнес их на Страшный суд этим самым профессорам. С третьего раза лучшие умы Франции таки смогли вникнуть в его идеи и, впав в живой восторг, словно помолодевши, силились выразить восхищение двадцатилетним юношей, который сумел создать новое направление в математике. Причем один из членов академии нашел затерявшиеся письма мсье Галуа двухлетней давности с той же самой теорией, только не так дотошно расписанной «для тупых», и восхищение профессуры удвоилось. Сколько ему было тогда? Восемнадцать?
Эваристу вручили премию, благодаря которой он расплатился по старым долгам семьи, возникшим за месяцы его заключения. Без конкурса его зачислили в самый престижный политехнический институт. Что интересно, не проводить конкурс попросили сами преподаватели – им не хотелось оказаться униженными гениальным юношей на вступительном экзамене. В них еще были живы воспоминания, как семнадцати-, восемнадцати- и девятнадцатилетний Галуа пытался поступить в институт на общих основаниях, но они не могли понять его вычислений и считали высокомерным глупцом. Теперь же, после решения Парижской академии, все перевернулось с ног на голову и высокомерными тупицами оказались эти самые преподаватели. Неприятную историю забыли, и Эварист принялся постигать остальные науки, получая при этом королевскую стипендию, которой хватало на пропитание матери и младшего брата.
Естественно, власти помнили о его республиканских взглядах, но премия академии, врученная к тому же с трехлетним опозданием, вызвала такой переполох, что слух о гениальном юноше мгновенно разнесся по всей Европе. Когда на стол главы секретной службы при короле лег доклад о нежелательном присутствии Галуа в институте, его теория уже тиражировалась всеми научными журналами Старого Света. Великий немецкий ученый Гаусс во всеуслышание объявил Галуа не менее великим ученым, чем он сам, а потому доклад решили положить под сукно. Проще было забыть республиканские взгляды юноши, чем пытаться противодействовать жажде человеческих знаний. Едва оправившиеся от революций Бурбоны окончательно опорочили бы себя, препятствуя развитию собственных научных умов.
В один из осенних дней, когда мсье Галуа впитывал в учебных аудиториях знания по сопредельным с математикой наукам, его навестил глава академии, чтобы вручить королевский грант на исследования – с пустой строкой для названия этих самых исследований.
– Впишите туда что хотите, – услужливо произнес профессор. – Это высший знак королевского расположения. К тому же вторым документом его величество Карл-Филипп объявляет вам безоговорочную амнистию. Оказалось, что полицейские, как всегда, что-то напутали и не со зла, но все ж таки опорочили ваше честное имя.
История знает много примеров беспринципного поведения людей, с легкостью меняющих свои убеждения на противоположные. К своей чести, Галуа был не из таких. Он прямо при достопочтенном профессоре порвал королевский грант, сохранив, однако, документ об амнистии. Перед бывшими осужденными, особенно по контрреволюционным статьям, во Франции закрывались многие двери, а этого Галуа не хотел. Может, дело было в его тщеславии, но он жаждал как можно больше преуспеть в математике, чтобы отомстить заносчивым профессорам, а без уголовного прошлого делать это в аристократической Европе 19 века намного проще.