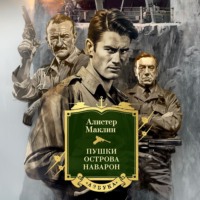Полная версия
Черный крестоносец
Профессор Уизерспун, запинаясь, рассказал о случившемся, по крайней мере изложил свою версию произошедшего. У него получилась довольно убедительная история о том, как заклинило кодовый замок, а из-за неровного пола сейф потерял устойчивость. Мари слушала его в гробовом молчании. Если она в тот момент играла, то стоило признать, что эта женщина ошиблась с выбором профессии: из нее могла получиться потрясающая актриса. Учащенное дыхание, поджатые губы, слегка раздутые ноздри, крепко стиснутые кулаки – все это я еще мог понять. Но чтобы добиться такой бледности на лице, требовалось вложить всю свою душу. Когда Уизерспун закончил рассказ, я даже подумал, что она сейчас набросится на него. Похоже, что грозный громила Хьюэлл совершенно не напугал ее. Однако Мари взяла себя в руки и сказала ледяным голосом:
– Большое спасибо вам обоим за то, что привели моего мужа домой. Так любезно с вашей стороны. Я не сомневаюсь, что это была случайность. Спокойной ночи.
Такой ответ просто не оставлял маневра для продолжения разговора, поэтому они ушли, выразив надежду, что завтра мне станет легче. Свои истинные мысли эти двое оставили при себе, и к тому же они забыли уточнить, как сломанная кость может срастись за одну ночь. Секунд десять Мари смотрела им вслед, а затем прошептала:
– Он… он такой страшный, правда? Как будто явился из тьмы веков.
– Красавчиком его не назовешь. Испугалась?
– Нет, конечно.
Мари еще несколько секунд простояла неподвижно, вздохнула, повернулась и села на край моей кровати. Некоторое время она смотрела на меня, как человек, сомневающийся или пытающийся принять какое-то решение, потом положила свои холодные ладони мне на лоб, провела кончиками пальцев по волосам и, поставив ладони на подушку по обе стороны от моей головы, оперлась на них. Она улыбнулась, но ее улыбка была невеселой, а карие глаза потемнели от тревоги.
– Мне так жаль, что с тобой это случилось, – тихо проговорила она. – Очень больно, Джонни?
Она никогда не называла меня так раньше.
– Ужасно.
Я обхватил ее одной рукой за шею и притянул к себе, пока ее голова не коснулась моей подушки. Мари не сопротивлялась. Судя по всему, она еще не оправилась от потрясения, вызванного знакомством с Хьюэллом. А может, просто решила пойти на поводу у больного. Ее щека была нежной, как лепесток цветка, от нее пахло солнцем и морем. Я прижался губами к ее уху и прошептал:
– Сходи посмотри, действительно ли они ушли.
Она замерла, словно дотронулась до оголенного провода, затем быстро оттолкнулась от кровати, встала и заглянула сквозь щели в шторе.
– Они оба сейчас в гостиной у профессора, – сказала Мари тихим голосом. – Ставят на место сейф.
– Погаси свет.
Мари подошла к столику, закрутила фитиль, прикрыла ладонью стеклянный колпак и дунула. Комната погрузилась во тьму. Я быстро сел на кровати, отодрал несколько ярдов медицинского пластыря, которым они обмотали шину и лодыжку, и тихо выругался из-за того, что он сильно прилип к коже. Отложив шину в сторону, я встал и попробовал попрыгать на правой ноге. Прыгал я почти так же хорошо, как и раньше, только большой палец немного болел – он принял на себя основной вес сейфа, когда согнулась подошва. Я попрыгал еще немного – все было в порядке. Тогда я сел и начал надевать носок и ботинок.
– Что ты делаешь? – спросила Мари, и я не без сожаления констатировал, что в ее голосе больше не слышалось такого же тихого участия, как прежде.
– Решил кое-что проверить, – тихо ответил я. – Похоже, моя старая добрая нога еще немного послужит мне.
– Но кость… я думала, ты ее сломал.
– Вот такое быстрое естественное восстановление.
Я подвигал ногой в ботинке и ничего не почувствовал. Затем рассказал ей о случившемся.
– Тебе доставляет удовольствие дурачить меня?
Я уже привык к женской несправедливости и не стал обращать внимание на этот вопрос. Мари умная и должна понять свою неправоту, по крайней мере, когда немного остынет. Зачем ей нужно остывать, я не знал, но, если ее температура немного опустится, она осознает, каких весомых преимуществ я добился, убедив всех, что не смогу самостоятельно передвигаться.
Я услышал, как она легла в свою кровать и тихо сказала:
– Ты просил меня сосчитать, сколько китайцев войдет и выйдет из того длинного барака.
– И сколько же?
– Восемнадцать.
– Восемнадцать! – Я насчитал только восемь.
– Да, восемнадцать.
– Не заметила, что они несли с собой, когда выходили?
– Никто не выходил. По крайней мере, пока не стемнело.
– Так-так. Где фонарик?
– У меня под подушкой. Вот, держи.
Она отвернулась, и вскоре я услышал ее медленное ровное дыхание, но я знал, что она не спит. Я оторвал полоску от пластыря и заклеил ею стекло фонарика, оставив только маленькое отверстие посередине диаметром в четверть дюйма. Затем встал около щели в шторе, через которую был виден профессорский дом. Хьюэлл ушел к себе вскоре после одиннадцати вечера. В его доме зажегся свет и через десять минут погас.
Тогда я прошел к шкафу, куда слуга-китаец сложил нашу одежду, порылся в нем, светя себе тонким лучом фонарика, нашел серые фланелевые брюки и синюю рубашку и быстро переоделся в темноте. Полковник Рейн не одобрил бы ночную прогулку в белой одежде. После этого я вернулся к кровати Мари и тихо сказал:
– Ты ведь не спишь?
– Что тебе нужно? – В ее голосе не ощущалось ни капли теплоты.
– Мари, послушай, не будь дурочкой. Чтобы обмануть их, мне пришлось обманывать и тебя, пока они находились здесь. Неужели ты не понимаешь, какое это преимущество, если тебя считают полностью обездвиженным? Чего ты от меня ждала? Что я появлюсь в дверях, опираясь на Хьюэлла и профессора, и радостно пропою: «Не волнуйся, дорогая! Это всего лишь шутка!»?
– Нет, конечно, – сказала она после минуты молчания. – Так что ты хотел? Просто высказать мне все это?
– На самом деле нет. Дело касается твоих бровей.
– Чего?
– Бровей. Ты блондинка, а брови у тебя темные. Они настоящие? Я про цвет.
– С тобой точно все в порядке?
– Мне нужно чем-то затемнить лицо. И я подумал, может, у тебя есть тушь…
– Что же ты сразу не сказал, вместо того чтобы умничать? – Разумом она явно понимала, что меня стоит простить, но что-то не позволяло ей сделать это. – У меня нет туши. Только черный крем для обуви. В верхнем ящике справа.
Я вздрогнул при мысли, что придется мазать этим лицо, но все равно поблагодарил Мари и отошел от ее кровати. Через час я и вовсе ушел. Заправил кровать так, чтобы создать впечатление, будто в ней кто-то лежит, осмотрел дом со всех сторон на случай, если около него дежурят заинтересованные зрители, и вышел через заднюю часть. Просто приподнял штору и прополз под ней. Никаких криков, воплей и выстрелов не последовало. Бентолл ушел, никем не замеченный, чему он остался несказанно рад. В темноте меня невозможно было разглядеть с пяти ярдов, хотя ветер разносил запах гуталина на расстояние раз в десять больше. Но тут ничего не поделаешь.
На первом отрезке моего пути к дому профессора было не так уж важно, функционирует моя нога или нет. Из хижины Хьюэлла или из барака для рабочих мой силуэт был бы отчетливо виден на фоне моря и белого блестящего песка. Поэтому я пополз на четвереньках, пока не оказался за домом профессора, где меня уже никто не смог бы увидеть.
Оказавшись за углом, я медленно и бесшумно встал и прижался к стене. Три больших тихих шага, и я уже около двери черного хода.
Не успев начать, я потерпел неудачу. Входная дверь была деревянной и на петлях, поэтому я предполагал, что и у черного хода будет такая же. Но там оказалась тростниковая занавеска из бамбука, и едва я дотронулся до нее, как она начала шелестеть и шуршать, словно сотня далеких кастаньет. Я приник к двери, крепко сжимая фонарик в руке. Прошло пять минут, но ничего не случилось, и никто не пришел, а когда наконец легкое дуновение ветра коснулось моего лица, бамбук снова зашуршал. Две минуты мне понадобилось на то, чтобы, не производя особого шума, собрать в кулак двадцать стеблей бамбука, две секунды, чтобы проникнуть в дом, и еще две минуты, чтобы вернуть бамбук на место. Ночь была не очень теплой, но я чувствовал, как пот стекает со лба мне на глаза. Я вытер его, прикрыл ладонью крошечное отверстие в центре фонаря, осторожно включил его и направился в кухню.
Я не ожидал обнаружить здесь что-то необычное, нетипичное для кухни. Так и случилось. Но в шкафчике для столовых приборов я нашел то, что искал. У Томми была отличная коллекция разделочных ножей, наточенных остро, как бритва. Я выбрал одного красавца с десятидюймовым лезвием треугольной формы, с одной стороны зазубренным, с другой – гладким. У рукоятки лезвие было два дюйма в ширину, затем постепенно сужалось до точки на конце. И эта точка была острой, как ланцет хирурга. Лучше, чем ничего. Намного лучше, если воткнуть его между ребрами, даже Хьюэллу такой удар не покажется щекоткой. Я аккуратно завернул нож в кухонное полотенце и заткнул себе за пояс.
Кухонная дверь, ведущая в главный коридор, была деревянной – вероятно, чтобы сдерживать запахи еды и не позволять им распространяться по всему дому. Она открылась внутрь на смазанных кожаных петлях. Я вышел в коридор и замер, прислушиваясь. Особенно долго прислушиваться не пришлось. Профессор спал совсем не бесшумно, и я легко определил, что его храп доносится из комнаты с открытой дверью примерно в десяти футах по коридору справа от меня. Я не знал, где спит мальчик-китаец, и не видел, чтобы тот покидал дом, значит он находился в какой-нибудь другой комнате, но где именно, я не собирался выяснять. Такие, как он, обычно спят чутко. Я надеялся, что гнусавый храп профессора заглушит любой шум, который я могу произвести. Но в гостиную я все равно пробирался, словно кот, крадущийся к птице на залитой солнцем лужайке.
Благополучно войдя в комнату, я закрыл за собой дверь, не издав ни малейшего шороха. Тратить время на осмотр комнаты я не стал, поскольку хорошо знал, где нужно искать, и сразу подошел к большому письменному столу с двумя тумбами. Даже если бы направление не подсказала мне блестящая медная проволока, которую я заприметил в соломенной крыше еще утром, когда сидел в плетеном кресле, мой нос безошибочно привел бы меня к цели: слабый, но едкий запах серной кислоты ни с чем не спутаешь.
У большинства подобных столов по обе стороны находятся тумбы с рядами ящиков. Но стол профессора Уизерспуна отличался от них тем, что в каждой тумбочке была всего одна дверца и обе они оказались незапертыми. Да и не было особых причин их запирать. Я открыл сначала дверцу слева и посветил внутрь фонариком.
Тумбочка оказалась большой, примерно тридцать дюймов высотой, восемнадцать шириной и около двух футов глубиной. Вся она была забита кислотными аккумуляторами и сухими батарейками. На верхней полке лежало десять больших, по 2,5 вольта, аккумуляторов в стеклянном корпусе, соединенные последовательно. На нижней полке я обнаружил восемь сухих батареек «Иксайд» по 120 вольт каждая, соединенные параллельно. При такой мощности можно отправить сигнал на Луну. Разумеется, при наличии радиопередатчика.
И радиопередатчик у профессора имелся. Я нашел его в соседней тумбочке. Он занимал ее целиком. Я немного разбираюсь в радиоприемниках, но эта серая металлическая махина с двадцатью, если не больше, шкалами настроек, указателями частот и рукоятками была мне совершенно незнакома. Я присмотрелся и нашел логотип изготовителя: «Радиокорпорация Куруби-Санкова, Осака и Шанхай». Мне это ни о чем не говорило, так же как несколько китайских иероглифов, выгравированных ниже. Длина волны и названия принимающих станций на указателе передаваемых волн обозначались на китайском и английском, а индикатор был установлен на Фучжоу. Возможно, профессор Уизерспун по доброте душевной позволял скучающим по дому рабочим общаться с родственниками в Китае? Хотя могло быть и другое объяснение.
Я тихо закрыл дверцу тумбочки и сосредоточил внимание на том, что находилось сверху. Профессор как будто предвидел мой визит и даже не опустил крышку своего столика-бюро; после пяти минут методичных поисков я понял причину его неосмотрительности. Ни на столе, ни в ящиках, на полках не оказалось ничего стоящего. Я уже собирался завершить поиски и потихоньку сматывать удочки, когда мой взгляд упал на совершенно заурядный предмет – настольный бювар в кожаном четырехугольном переплете. Я вытащил из него пачку промокательной бумаги и обнаружил листок тончайшего пергамента, спрятанного между нижними промокашками.
На этом листке был отпечатан на машинке список из шести строк. В каждой строке содержались названия из двух слов через дефис и восемь цифр. Первая строка была следующей: «Пеликан-Такисамару 20007815», вторая: «Линкьян-Хаветта 10346925». И еще четыре похожие строчки с ничего не значащими названиями и комбинациями цифр.
Внизу, после значительного отступа, еще одна строка: «Каждый час 46 Томбола».
Мне это ровным счетом ничего не говорило. Совершенно бесполезная информация, если она вообще имела какой-то смысл. Хотя, возможно, я заполучил необычайно важный код. В любом случае сейчас пользы от него не было никакой, однако он мог пригодиться мне впоследствии. Полковник Рейн считал, что у меня фотографическая память, но точно не для такой галиматьи. Я взял со стола профессора карандаш и лист бумаги, переписал весь текст, вернул пергамент на место, снял ботинок, свернул лист, замотал его в водонепроницаемый полиэтилен и положил в носок себе под подошву. Мне совсем не хотелось опять пробираться в кухню через коридор, поэтому я вылез в окно, находившееся с противоположной стороны от дома Хьюэлла и рабочих бараков.
Через двадцать минут я отполз на достаточное расстояние от всех домов и с трудом поднялся на ноги. Передвигаться подобным образом мне не приходилось с младенческого возраста, и я утратил сноровку; к тому же за все эти годы мои конечности стали совершенно непригодными для такого передвижения и ужасно болели, однако были в не худшем состоянии, чем одежда, которая их прикрывала.
Почти все небо заволокло тучами, но время от времени в просветах между облаками появлялась полная луна, и мне приходилось прятаться за ближайшим кустом и ждать, пока небо снова потемнеет. Я двигался вдоль железнодорожных рельсов, которые вели от камнедробилки, огибали сушильный комплекс и тянулись к южной, а затем, вероятно, к западной части острова. Мне стало интересно, куда именно они ведут. Профессор Уизерспун старательно воздерживался от упоминаний о том, что находится на противоположной части острова, однако, несмотря на свою осторожность, оказался слишком болтливым. Он рассказал мне, что фосфатная компания добывала около тысячи тонн породы в день, а поскольку ее здесь больше не было, значит ее куда-то вывозили. Для этого нужно было судно, причем большое судно, а ни одно большое судно не смогло бы пришвартоваться к плавучему пирсу из связанных бревен возле дома профессора, даже если бы ему удалось преодолеть мелководье лагуны, что само по себе выглядело невероятным. Здесь требовалось что-то намного более основательное – каменный или бетонный причал, возможно построенный из коралловых блоков, а также кран или приемный бункер с наклонным загрузочным желобом. Видимо, профессор Уизерспун не хотел, чтобы я ходил в ту сторону.
Через несколько секунд я и сам пожалел, что отправился туда. Не успел я перебраться через небольшую дренажную канаву, по которой тонкий, едва видимый за густыми зарослями кустарника ручеек стекал с горы в море, и пройти всего несколько шагов, как позади раздался мягкий, крадущийся топот ног, что-то тяжелое ударило меня в спину и, прежде чем я успел отреагировать, кто-то впился мне в левую руку прямо над локтем со звериной яростью и силой медвежьего капкана. Руку мгновенно пронзила невыносимая боль.
Хьюэлл. Это была моя первая, инстинктивная реакция, когда я с трудом встал, пошатнулся и чуть снова не упал. Хьюэлл, наверняка это Хьюэлл, у кого еще может быть такая жуткая хватка? Рука болела так, словно ее переломили пополам. Я замахнулся правой рукой и, очертив в воздухе полукруг, со всей силы нанес удар туда, где должен был находиться его живот, однако мой кулак встретил лишь пустоту. Я едва не вывихнул правое плечо, но думать об этом было некогда: меня снова качнуло в сторону, и я с трудом удержался на ногах. Я сражался за то, чтобы сохранить равновесие и сохранить свою жизнь. Потому что напал на меня вовсе не Хьюэлл, а пес размером с волка и такой же сильный.
Я попытался оторвать его от себя правой рукой, но зубы пса еще глубже впились в мою плоть. Я снова стал размахивать правой рукой, стараясь попасть кулаком по его сильному телу, но он держался слева от меня, и я просто не попадал по нему. Ногами тоже не получалось до него достать. Я не мог ударить пса, не мог его стряхнуть, рядом не было ни одного твердого предмета, в который можно было бы его впечатать, и я понимал, что если я попытаюсь упасть на него сверху, то не успею и глазом моргнуть, как он отпустит мою руку и вцепится зубами мне в горло.
Пес весил фунтов восемьдесят или даже девяносто. Его клыки были словно стальные крючья, а когда в вас впиваются стальные крючья, к которым подвешен груз в девяносто фунтов весом, исход очевиден: ваши кожа и мышцы начинают рваться, а запасной кожи и мышц у меня не было. Я чувствовал, что слабею, ощущал, как накатывают волны боли и дурноты, однако в мгновения просветления мой разум снова начинал работать в полную силу. Я без труда дотянулся до ножа, заткнутого за пояс, но мне потребовалось почти десять бесконечных, мучительных секунд, чтобы одной рукой стряхнуть с него полотенце, в которое он был завернут. Дальше все оказалось просто: острие вонзилось в пса чуть ниже грудины и под углом вошло в сердце, практически не встретив сопротивления. Медвежий капкан, сжимавший мне руку, сразу ослаб, и пес умер раньше, чем свалился на землю.
Я не знал, какой он породы, да меня это и не волновало. Схватив его за тяжелый ошейник с шипами, я подтащил пса к ручейку, через который только что перебрался, и столкнул с низкого берега в воду в том месте, где заросли были особенно густыми. Я подумал, что сверху его вряд ли смогут разглядеть, но не рискнул включать фонарик и проверять. На всякий случай придавил тело тяжелыми камнями, чтобы после сильного дождя, когда ручей выйдет из берегов, тело не вынесло на поверхность. Затем лег лицом вниз у ручья и пролежал так минут пять, пока острая боль, потрясение и тошнота не отступили, а учащенный пульс и сердцебиение не пришли в норму. И это были тяжелые минуты.
Снимать рубашку и майку тоже оказалось занятием не из приятных, рука уже начала неметь, но мне все же удалось промыть рану в проточной воде. К счастью, вода была пресной, а не соленой. Я подумал, что если собака болела бешенством, то польза от этого мытья примерно такая же, как если бы я промыл рану после укуса королевской кобры. Но волноваться по этому поводу было бессмысленно, так что я, как мог, перевязал руку полосками, оторванными от майки, натянул рубашку, выбрался на берег и снова пошел вдоль рельсов. Нож я больше не заворачивал в тряпку и держал его в правой руке. Меня трясло от неудержимой ярости, леденящей душу и тело. И настроен я был весьма враждебно.
Я уже почти добрался до южной части острова. Деревья здесь не росли, только редкий низкий кустарник, за которым можно спрятаться, лишь распластавшись на земле, а у меня не было никакого желания делать это. Впрочем, я еще не окончательно выжил из ума, и, когда луна прорвалась сквозь завесу облаков, я все же упал на живот и выглянул из-за куста, неспособного послужить надежным укрытием даже кролику.
При ярком лунном свете я разглядел, что мои первые впечатления об острове, полученные, когда я на рассвете смотрел на него с рифа, оказались не совсем верными. Утренний туман окутал его на юге, скрыв истинные очертания. У подножия горы действительно пролегала узкая полоса равнины, которая, судя по всему, опоясывала весь остров, но здесь она оказалась намного уже, чем на востоке. Более того, вместо пологого спуска от подножия горы к морю здесь, наоборот, от берега шел пологий склон к подножию горы. Это могло означать только одно: на юге остров, скорее всего, заканчивается обрывом, возможно, даже отвесной скалой. О самой горе у меня тоже сложилось неверное представление, будто ее вершина представляла собой гладкий, круто взмывающий вверх конус. С рифа я не мог рассмотреть огромную расщелину или ущелье, почти полностью рассекавшее гору надвое с южной стороны. Без сомнения, расщелина возникла после той катастрофы, когда северная часть горы скрылась под водой. Таким образом, учитывая конфигурацию острова, добраться с восточной части до западной можно было только по этому узкому равнинному участку у подножия горы, ширина которого составляла не более ста двадцати ярдов.
Через пятнадцать минут пространство между облаками увеличилось в два раза, а луна по-прежнему оставалась на небе. Тогда я все-таки рискнул и двинулся дальше. При таком ярком лунном свете меня бы заметили в любом случае, даже если бы я решил вернуться. Лучше уж идти вперед. И все это время я, не переставая, бранил луну. Осыпал проклятиями, которые возмутили бы поэтов и сочинителей популярных песенок. Но они точно одобрили бы искренние извинения, которые я принес той же самой луне пару минут спустя.
Я медленно полз на ободранных локтях и коленках, держа голову всего в девяти дюймах от земли, когда увидел на расстоянии вытянутой руки нечто, также находившееся в девяти дюймах над землей. Это была проволока, натянутая над землей и закрепленная на металлических штырьках с петлями на концах. Прежде я не заметил ее, поскольку она была окрашена в черный цвет. Эта окраска и низкое расположение проволоки, собака, разгуливающая по округе, и тот факт, что на проволоке отсутствовал изолятор, – все это ясно давало понять, что через нее не идет ток, способный убить смертоносным разрядом. Это всего лишь старомодная растяжка, прикрепленная к какому-то механическому сигнальному устройству.
Двадцать минут я пролежал неподвижно, пока луна снова не скрылась за облаками, затем с трудом поднялся на одеревеневшие ноги, перешагнул через проволоку и снова лег. Теперь справа от меня оказался ощутимый подъем к склону горы, рельсы также шли на подъем, соответствуя рельефу. Я решил ползти вдоль насыпи: если луна снова выглянет из-за туч, я окажусь в тени. По крайней мере, я на это надеялся.
Так и случилось. Еще полчаса я практиковался в ползании на четвереньках, ничего больше не видя и не слыша. За это время я проникся сочувствием и уважением к тем низшим представителям царства животных, которые обречены проводить так всю свою жизнь. Наконец луна все-таки вышла. И тогда я кое-что увидел.
Менее чем в тридцати ярдах от меня стоял забор. Мне уже доводилось видеть подобные, такими не огораживают английские поля. Я видел их в Корее вокруг лагеря для военнопленных. Забор был больше шести футов в высоту, состоял из девяти рядов колючей проволоки и еще со спиралями проволоки наверху. Он возникал из непроглядной тьмы расщелины справа от меня и тянулся на юг, пересекая все пространство.
Где-то в десяти ярдах от него виднелся еще один точно такой же забор, однако мое внимание привлекла группа из трех человек за тем, вторым забором. Они стояли и о чем-то разговаривали, но так тихо, что я не мог разобрать ни слова. Один из них только что закурил сигарету. На всех были белые парусиновые брюки, панамы, гетры и пояса-патронташи, а на плечах висели винтовки. Без сомнения, передо мной были матросы Королевского флота.
К тому моменту я уже ничего не соображал. Я устал. Был измотан. Не мог сосредоточиться. Если бы у меня появилось немного времени, я, может, и нашел бы парочку убедительных объяснений, почему здесь, на этом отдаленном острове архипелага Фиджи, находятся три моряка Королевского флота. Но зачем заниматься глупостями, когда мне только и нужно, что встать и расспросить их? Я перенес вес с локтей на ладони и начал подниматься.
Кусты в трех ярдах от меня зашевелились. Испугавшись за свою жизнь, я невольно замер. Ни одна откопанная профессором древность даже вполовину не выглядела такой окаменелой, как я в тот момент. Куст медленно наклонился к соседнему кусту и зашептал настолько тихо, что я ничего не смог расслышать с расстояния в пять футов. Но они должны были слышать меня. Мое сердце стучало так громко, что отдавалось в ушах, как удары отбойного молотка. И с такой же скоростью. И даже если они не слышали меня, то точно должны были почувствовать вибрации, которые передавались земле от моего тела. Ведь я был совсем рядом, а в ту минуту меня засек бы даже сейсмограф в Суве. Но они ничего не услышали и не почувствовали. Я приник к земле с отчаянием игрока, поставившего все свое состояние на последнюю карту. Мысленно напомнил себе, что все эти рассуждения о жизненной необходимости кислорода придумали доктора. Перестал дышать. Правая рука ныла, костяшки пальцев на руке, сжимающей рукоятку ножа, блестели в лунном свете, как полированная слоновая кость. Лишь большим усилием воли я заставил себя немного ослабить хватку, но все равно за всю жизнь я ничего не держал так крепко, как рукоятку того ножа.