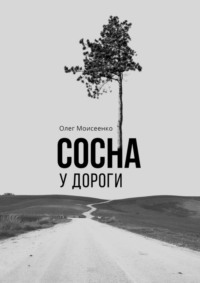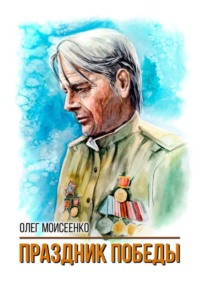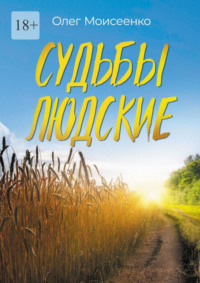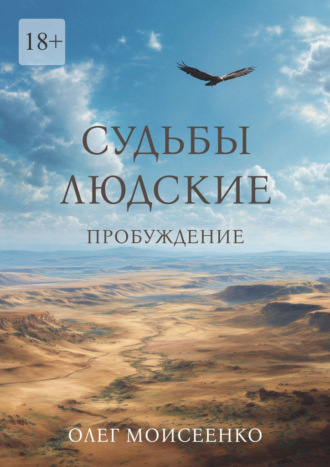
Полная версия
Судьбы людские. Пробуждение
На подворье Савелия, что в престольные праздники, что нужда какая появится, собиралось народу как на свадьбе, он даже не всех внуков помнил. Дружная у него семья получилась, на зависть многим жителям в деревне.
Породнился Савелий с Макаром из Новой Гати через жену брата Демида, которая оказалась сестрой жены Макара, потом и вовсе как родными стали. Как раз незадолго до войны сосватали за Тихона среднюю дочь Савелия Антонину. Задумал Макар хату для Тихона ставить, а в августе, как зачитали манифест царя, что на войну надо идти, родилась у них с Антониной дочка Дарья, вот и пришлось отложить отселение. Через год на Николу, в престольный праздник в Вышгоре, Савелию наказали, что как только станут первые морозы, Макар для сына собирается ставить хату и просит помочь ему в этом. Кому-кому, а Макару отказать в таком важном мероприятии было никак невозможно. Потом еще уточнили, когда надо подойти на помощь. Хотя было немало заказов свалять валенки, чем он занимался каждую зиму, пришлось некоторым отказывать, ссылаясь на предстоящее строительство хаты зятю.
Савелий уже почти целый час точил напильником двуручную пилу. Вначале топором делал в ней развод зубьев; держа двумя руками, словно прицеливаясь из ружья, определял, не вылез ли какой зуб из ряда и не будет ли он борозды на спиле бревна делать и сильно заминать в работе. В такие минуты Акулина вела себя тихо и уважительно: тут она не могла быть советчицей мужу, отчего горестно вздыхала. Вот и готовил Савелий инструменты для такой деликатной и ответственной работы. Там у Макара, по его прикидкам, соберется человек десять, не меньше, и каждый будет незаметно свой инструмент расхваливать да прыть в работе показывать. А какая может быть прыть, если инструмент никакой? Одни насмешки получатся. Савелий считался хорошим подгонщиком бревен, здесь нужен топор особый – плотницкий. Мало, что как бритва острый, так еще его лезвие и центр топорища должны идти строго по одной линии, поэтому топорище делалось из клена, высушивалось в тени под поветью, обрабатывалось тщательно; оставалось его набить и заклинить, не нарушив той линии.
В дорогу Савелий намеревался отправиться на следующий день. Он уже подготовил топор, бурав, драчку, которой определял, по какой линии и сколько надо было вырубать пазов в бревне, завернул в тряпицу лучковую пилу, и оставалось только упаковать двуручную и одноручную, его гордость, которую берег, как свой глаз, и никому в руки не давал. Пила была, как ее называл Савелий, удалая, меньше сажени в длину, а главное, в ней особые зубья: и не мелкие, и не крупные. Такой пилой ему самому удалось спилить на корню дуб под первый венец сруба своей хаты. Ну и, конечно, Акулина должна была собрать гостинцы маленькой Дарье и Антонине, да и перекус в дорогу с собой нужен, так что ноша за плечами получалась нелегкая. Расстояние до Новой Гати не такое уж и значительное – коли утром вышел, то к обеду точно будешь, если не случится ненастья или какого-либо приключения. А если повезет и встретится попутная телега, то и вовсе недалеко.
Хату Тихону ставили в самой низине. Рядом был уже обозначен двор Тимоха, а следующим, чуть на возвышенности, – Исака, там уже стояла его хата под крышей. Исак почитался мужиком зажиточным, заметно выделялся среди середняков и особо с соседями в разговоры не вступал, сторонился. Зато его жена Фекла – дай поговорить, она знала все деревенские новости и разносила их по деревне в своей интерпретации.
Собралась на новом подворье Тихона целая артель, и все родственники, только давай работу. Решили сразу ставить и хату, и гумно, и сарай, разделившись на команды. Застучали топоры и молотки, завизжали пилы; благо, к этому времени Макар постарался заготовить лес, привез дубы на первый венец хаты и шулы, камыш на крышу. Очень хотелось сделать такую, как у попа Василия, покрытую листовым железом, да где ты его возьмешь, того железа? Найти можно было, только цена назначалась непомерная. Соорудили навес, под которым определились места для ночлега и приема пищи, а чуть поодаль почти весь день горел костер: там хозяйничали Антонина с матерью, теткой Надей, готовили еду. Савелий руководил постройкой хаты, здесь и пригодились его инструмент и его умения. Не у всех родственников были такие навыки, да и некоторым приходилось по срочным делам отъезжать домой, так появлялись другие. И к началу уборки хата стояла под крышей. Деликатное это дело – камышом, связанным в снопы, крыть крышу, здесь особо не разгонишься. Медленно, вплетая тонкие длинные осиновые жердочки, Макар вязал к ним развернутые снопы, а его молодые помощники подгоняли и уплотняли их деревянными гребенками.
Там, далеко на западе, шла война, уже не один раз отправлялись рекруты из Новой Гати на фронт. Обратно приходили похоронки, плач стоял по убиенным, а улица, на удивление, удлинялась, да и вся деревня расширялась. А в начале зимы случилось у Тихона несчастье: жена Антонина занемогла и родила неживого мальчика. Не покладая рук трудилась она с утра до позднего вечера, досматривая хозяйство, занимаясь уборочными работами на своем поле и помогая со строительством подворья. Погоревали в семье день-другой, да что сделаешь, вокруг горя много. Война идет, а жить-то надо, хату достраивать надо. Схоронили дитя, и Антонина взялась за рукоделье, надо было разбираться со льном.
Пришла к Макару погостить и помочь дочери Акулина да и завела разговор насчет похода в Киев:
– Годы мои уже большие, может, даст бог побывать последний раз в Киеве, помолиться да приложиться к мощам святых, а тебе, дочка, смириться и просить еще деток. Молодая ты еще.
Заплакала Антонина, и договорились они, как только снег сойдет, отправиться туда.
Зима в снегах, морозах, святках пролетела быстро; день стал прибавляться, закапали со стрех капели. На подворье оживилось строительство: тесали заготовленный лес, пилили доски, кололи длинными острыми ножами дранку на фронтоны. Начал таять снег – и работы притихли. Наступил Великий пост, и Антонина засобиралась в долгожданный путь, чтобы вернуться к Пасхе. Женский гурт получился небольшим, вела его Акулина. Уже хорошо подсохла земля, но по вечерам воздух бодрил, поэтому старались на ночлег останавливаться в деревнях, где были церкви; там долго молились и всегда находили приют и поддержку у людей.
В Киеве уже пахло настоящей весной; в радости проходили богослужения, и отведенные дни проскочили, как короткий летний сон. Заспешили домой. Дорога показалась необычайно короткой и легкой. Уже недалеко от родных мест рано утром повстречали клин журавлей. Остановились женщины, стоят, смотрят в небеса, слушают зовущую к жизни песню – кажется, она такая простая, а как трогает душу. Растворился в небесах клин, и встали богомолицы в круг, и зазвучал в поле негромкий разноголосый хор, распространяя окрест молитву, подобную весеннему птичьему щебетанию. Перекрестились женщины и двинулись дальше, подбодренные словами Акулины: «Слава Богу, такую красоту увидели. Знать, к концу дня дома будем». Замелькали ноги, словно крылья перелетных птиц, и точно: разделившись в бору на две группы – одна направилась в сторону Вышгора, а другая – в Новую Гать, – в сумерках, на радость родным, были на месте.
В тот год к середине осени подворье Тихона было не узнать. Он с семьей еще не переехал в новую хату, в которой висела только одна икона и негде было спать, но решили в ней на престольный праздник принимать гостей. Поддержал Макар его в таком деле, и отправил он наказы родственникам уважить сына: сразу после молебна в церкви идти на новое подворье, а потом уже как кто пожелает. Готовились, как к свадьбе, собирали у соседей столы и скамейки, посуду и всякую утварь. Заглавной здесь стала Ганна, жена Макара: умела она, как говорили, из ничего сделать вкусный обед и накормить большую семью. Получалось у нее это просто и быстро, ее любимыми словами в такие моменты были «вы только не мешайте мне». От подворья Тихона разносились необыкновенные запахи еды и солений, тут же крутилась ватага детей, жаждущих вкусить от тех запахов. Не выдерживало сердце Антонины детских голосов, выносила она знаменитые пампушки, которые пекла Ганна; даже пришлось их разламывать пополам, чтобы хватило каждому. Разлетелись в разные стороны дети. «Ишь, порхнули, что те воробьи», – улыбаясь, произнесла она про себя.
Перед застольем гости в сопровождении то Савелия, то Макара чинно обходили строения, восхваляя хозяев и мастеров, сравнивая со своим хозяйством и внося, где в шутку, а где всерьез, предложения для дальнейшего совершенствования сделанного. Больше всего похвал получил Савелий. Он отнекивался, пытаясь сказанное перевести в шутку, а восхвалявший указывал на еще большие его мастерство и умение.
С сияющим лицом Савелий продолжал отнекиваться, а потом махнул рукой и добавил:
– А как же, старался все аккуратно делать. Мои годы уже немалые, может, уже больше не буду за такие дела браться. Тяжеловато уже лазить наверху да бревна катать, начну-ка я валенки валять.
Тут же раздались голоса гостей с просьбами свалять для них и как можно скорее. Рассмеялся Савелий, хотел ответить, да Ганна и Антонина позвали садиться за стол. Разговоры и споры затихли; гости стояли стеной вдоль уставленных едой столов, ждали хозяев.
Шумное празднество проходило целых три дня, желающих сказать доброе слово, поздравить с праздником было без счета, и всем всего хватило, каждого приветили и отнеслись с уважением.
Сразу после праздника похолодало, задул северо-западный ветер, подморозило, и закружились снежинки: природа затевала свой новый виток, вселяя в души людей надежду на благополучие и размеренную жизнь.
Невеселые вести приносила затянувшаяся война. Приберегали собранный урожай мужики, не хотели везти в уезд на продажу, а там товары дорожали, чувствовалось беспокойство, высказывалось недовольство. Чаще можно было видеть заезжих людей из Поречья, которые провозили тайком на обмен скобяные изделия, которые изготавливались на небольшом заводе, а взамен просили муку, картошку, сало. Бывало, у церкви и у лавки еврея Иммануила разворачивался настоящий торг, похожий на базар. Не нравилось такое мероприятие попу Василию и Иммануилу. Обычно они не очень уважали друг друга, а здесь объединялись и пытались прогонять приезжих, да не получалось, не поддерживали сельчане такого их намерения.
В ту зиму после Рождества переехал Тихон с семьей в новую хату. Задымила печная труба над крышей, возвещая о тепле в жилище и о своем хозяйстве. Отец корову и лошадь дал, курей с молодым петухом, Савелий двух овец привез и барана; от других родственников передали поросят, а запасы сена были заложены уже с осени. Забегали за водой к колодцу то молодая хозяйка, то хозяин; в радости начиналась их жизнь на новом подворье.
В один из дней несмело зашел на подворье к Тихону сосед Тимох. Раньше они перекинутся словами да и пустятся бегом заниматься своими делами, не вступая в разговоры, а сейчас здесь было подворье, на котором был настоящий хозяин, и это хорошо понимал сосед. И ему хотелось с ним налаживать дружбу, примерялся, с чего бы начать разговор. Тимох считал себя человеком грамотным и сведущим во многих делах, мог дать толкование многим происходящим событиям, а сейчас ни один разговор не обходился без обсуждения войны и дел на фронтах. Только надо было как-то подступиться к такому деликатному вопросу. И он возник неожиданно.
Поздоровались соседи, присели перекурить. Хотя Тихон не очень баловался таким делом – маленькая дочка не терпела табачного запаха, – решил соседа поддержать и спросил:
– Ты, Тимох, табак покупаешь или у тебя самосад?
Тимох аж поперхнулся от такого вопроса и, откашлявшись, уверенно изложил на него свой взгляд.
– Да кому же сейчас придет в голову табак покупать? Его же германцы делают и нам тайно завозят, наживая несметные барыши. Да чтобы я помогал германцам, да ни в жизнь! – выпалил с некоторым возмущением сосед.
– А у нас что, своего табака не выращивают? Столько земли у нас, только высевай; можно не одну страну табаком завалить, – поддержал разговор Тихон.
– То-то и оно. Только весь табак германцы скупают, режут на маленькие кусочки и продают уже в пачках или делают такие папиросы, как мы – самокрутки, и продают нам втридорога. Ты видишь, какие они изворотливые; да не будет им удачи, не с теми связались. Наш царь, Николашка, это не их надутый кайзер, он ему хребет сломает. Тут главное – наш люд не гневить, – затягиваясь и выпуская клуб дыма, изрек Тимох такую сложную закавыку.
«А ему в рот палец не клади», – подумал Тихон, да тут со двора соседа раздался голос его жены:
– Тимох, Тимох, где тебя черти носят? Пора бы сена корове давать.
Оба соседа подхватились одновременно и кинулись заниматься своими делами. С тех пор можно было иногда видеть их за обсуждением самых необычных вопросов.
Только в начале марта ни с того ни с сего зазвонил главный церковный колокол, извещая о важном событии. Потянулись туда прихожане. Одни говорили – что еще могло случиться, может, слава богу, война закончилась; другие с тревогой смотрели на улицу – не пожар ли. Да еще полетела по деревне пугающая всех весть: не дай бог Николашка от царства отказался и не будет у нас царя.
На подворье Тихона такое известие принес запыхавшийся сосед Тимох:
– Исакову женку встретил, из церкви шла. Говорит, поп Василий объявил, что царь наш от трона отрекся. Не будет теперь у нас царя, так и сказал.
Увидев очумелые глаза незнакомого дяди, заревела маленькая Дарья, прижимаясь к Антонине, у которой тоже глаза округлились, лицо стало бледнеть, и она невнятно произнесла:
– А как же без царя, без заступника нашего… – и, сильнее прижимая дочку, заплакала навзрыд, бормоча сквозь слезы: – Ой, Божечко ты мой, как же нам жить дальше…
Тимох не ожидал таких слез на эту новость и виновато топтался у порога, потом крутнулся и молча выбежал из хаты с мыслью, как бы не пропустить еще какой-нибудь вести.
Дня три еще, кого в деревне ни встретишь, обязательно горестно говорили об отречении царя от престола, о том, как жить дальше, как повернется все, и сходились в одном: надежда только на Бога и на свои силы. А выговорившись, переходили к обсуждению погоды и того, не пора ли навоз на поле под ячмень вывозить. Как бы не развезло – так и не удобришь земли… И расходились каждый со своими заботами.
Продолжался Великий пост. Женская половина старалась завершить дела с пряжей и шитьем, молодежь и вовсе не замечала происходящих событий, а кто постарше, в особенности мужская часть, собирались у кого-нибудь из соседей в хате небольшим гуртом, неспешно закуривали, и начиналась беседа.
Такой гурт мужиков в один из субботних вечеров образовался у Макара. К нему приехал Савелий и привез валенки, кому должен был их свалять, и на продажу; вот и потянулся сразу после ужина в хату люд – кто свои валенки забрать, а кто поторговаться. Тут же примеряли зимний обуток, высказывая то восхищение, а то и недовольство. Находились шутники из тех, кто проявлял любопытство да и просто желал высказаться:
– Ты бы, Савелий, к Пасхе привез валенки, вот бы люди покрасовались в обновке!
Савелий, расплываясь в улыбке и попыхивая самокруткой, отвечал поговоркой:
– Готовь сани летом, а телегу зимой, иначе порядка в хозяйстве не будет, – и отдавал последнюю пару валенок.
– Оно-то так, да лучше ко времени, – вставил свое слово Иван Лабудь, один из гурта мужиков, желающих узнать новости от Савелия да и просто посудачить.
В хате уже было не продохнуть от табачного дыма. Ганна заявила, что у нее здоровья не хватит выдержать такое наказание, насыпала на столе гору тыквенных семечек и направилась в горницу.
Тут раздался голос соседа по кличке Зусь.
– Ты бы нам по чарке налила, а то всё семечки, уже зубов нету их лузгать, – завел он предвечную свою песню. Мало кто знал его настоящее имя, для всех он был Зусь.
– Побойся Бога, пост же, – с негодованием ответила, уходя, Ганна.
Иван Лабудь поддержал ее:
– Одну чарку опрокинешь – другую захочешь, а там, если у кого меры нет, уже развезло, и понеслась душа в рай.
Тут же с недовольством высказался Зусь:
– Ты, Иван, один у нас на всю Новую Гать правильный!
Может, он и дальше упрекал бы Ивана, но его перебил Савелий. Он приподнял руки, хлопнул ладошками по коленям, и сразу все с удивлением посмотрели на него.
– Ехал сюда по шляху и такого страху натерпелся, не дай бог. Проезжаю мосток, что в начале Тесоного, там кусты слева-справа. Выскакивает из кустов один в военной форме, потом второй, за ним третий, и все с оружием. Ну, думаю, пропал; да как хлестану коня, он в галоп. Оглянулся назад, а их там, может, человек десять стоит, и целятся из винтовки!
В хате наступила тишина. Первым не вытерпел Макар:
– И что, по тебе стреляли?
Савелий обхватил голову руками и стал показывать, как он лег на санях и ничего не слышал, только добавил:
– Может, и стреляли.
Рассказ Савелия не располагал к обычному разговору, наоборот, нагнал на слушателей страху. Каждый из них втайне подумал с опаской: «А если те вояки заявятся на мое подворье? Они же с оружием и могут забрать, что им вздумается!» В такой ситуации было не до разговоров.
Но все неожиданно повернул Иван. Он в деревне числился в середняках, имел большую семью, почитался человеком грамотным и рассудительным. Грамоте учился в уезде, в молодые годы работал там на железнодорожной станции, да приболел немного, а тут и отец занемог. Он вернулся в деревню, женился, и пошли один за одним дети. Встал он на ноги, обзавелся хозяйством, и не проходило почти ни одного значимого события в деревне без его участия: он мог вести разговор на любую тему, а когда его кто-нибудь с ехидством спрашивал, откуда он это знает, отвечал, что так сказано в Писании. После таких слов устанавливалась тишина, и вопросов больше не возникало.
Иван многозначительно кашлянул, привлекая к себе внимание. Один Зусь посмотрел на него с недоверием – мол, знаем мы тебя, опять начнешь тень на плетень наводить.
– Еще не такое будет, не зря Николашка от трона отказался. Война уже почти четыре года идет, да такая война, а нас, считай, она и не тронула, не стреляют у нас. А когда это было так, чтобы через наши земли какой-либо чужеземец не проходил? Туда – к Москве идут, потом назад их гонят, и всё через нашу местность. Ох, сколько здесь войн перебывало.
Притихли мужики, уже и про жуткий рассказ забывать стали, слушая Ивана, даже Зусь рот приоткрыл. А Лабудь окинул взглядом своих слушателей и дальше закрутил:
– В Писании сказано, что эта война продлится еще не один год, голод будет и по нашим местам военных пройдет не счесть сколько. Царь это все знал от своего придворного Распутина, да попал под царицын каблук, вот и кончилось его царство. Если у кого хозяина на подворье нету, жди там разора. – Иван замолчал, взял со стола семечки и начал их лузгать.
– Так что же это за военные, которых Савелий на шляхе видел? – забеспокоился Макар. Он как-то мало доверял рассуждениям Ивана насчет войны в здешних местах и голода, а больше опасался, как бы те военные не забрели на его подворье.
– А ты знаешь, Макар, сколько сейчас с оружием дезертиров ходит? Может, миллион! Я слышал, как об этом поп Василий с урядником разговаривали. Даже, бывает, разбоем занимаются, – последовал ответ Лабудя.
Разговор получался совсем кособоким, он вызывал беспокойство и желание побыстрее выйти во двор и посмотреть, как там оно.
Первым поднялся Савелий:
– Пойду посмотрю, как там мой конь, и подложу ему сена.
Макар замахал рукой:
– Не беспокойся, сват, коня твоего я напоил и сена на всю ночь положил. Только разве сани чуть в сторону сдвинуть, чтобы кто за них ночью не зацепился.
Последние слова Макара вызвали всеобщее замешательство. Гурт стал расходиться. Белизна снега, несмотря на безлунную ночь, скрадывала темноту. Макар проводил гостей до калитки, а Савелий все же пошел проведать коня. С тревожными думами расходились мужики, неся глубоко в душе беспокойство от высказанного в Ивановом Писании пророчества. «Вот ты скажи, какой этот Иван человек: каркает, что та ворона», – негодовал Зусь. Сегодняшний разговор ему пришелся не по душе, и он стал строить планы, куда бы зайти, чтобы облегчить свои страдания.
Савелий, похлопывая ладонью коня по шее, поправлял ему гриву, тихонько приговаривая:
– Даст бог, завтра проведаем внучку и будем дома.
На следующий день перед обедом он отъезжал от двора Тихона, и больше ему в Новой Гати быть не довелось.
Глава 3
1В нескольких десятках шагов от крепостных ворот, у самой стены приютился неприметный дворик известного всем в местечке еврея Шмели. Это было странное строение, похожее на нагромождение камней и еще невесть чего, подпираемое деревянными столбами. Внутри же это было приличное для проживания помещение. Под каждым из трех каменных сводов, отходящих от крепостной стены, могли разместиться несколько человек. Некогда это было укрытие для раненых при осаде крепости, здесь же хранилось оружие и отдыхали стражи ворот. Крепостная стена местами обрушилась от времени, и она, чередуясь с земляным валом, окаймляла городок и старинный замок былых князей из рода Пястов. Все это уже не выглядело серьезным оборонительным сооружением, хотя по местным легендам именно у этих стен здешние жители остановили продвижение монголо-татар вглубь Польши. Прославился же при этом шляхтич хорунжий, который отвечал за оборону ворот, да так и остался доживать век возле места своей славы, соорудив скромное жилище. Дети хорунжего уже были не такими удальцами-вояками, больше проводили время праздно да и поиздержались, попав в цепкие руки местного, хваткого на дармовое еврея Шмели. Так за долги они и уступили ему сильно пошатнувшееся строение с условием, что семья еврея в дворике не поселится. Принял такое условие новый хозяин и стал искать, какую он может иметь выгоду от такого жилища. Правда, мало находилось охотников посетить приобретенную им обитель.
Дворик был огорожен крепким забором, через который трудно проникнуть любопытному глазу. У неприметной и довольно низкой калитки можно было рассмотреть что-то похожее на язык колокола, свисавший на массивной цепи, к которому была подвязана плетеная веревка, закрепленная за крючок. Рядом росла яблоня, она ежегодно приносила малосъедобные мелкие плоды. Их никто не собирал, как и не убирал листвы. Все это и свисавшие с пожелтевшими листьями ветки, особенно в позднюю осеннюю пору, придавали мрачность входу во дворик. Незнакомому человеку такое место сразу представлялось негостеприимным и даже зловещим.
Сам Шмеля с женой жили рядом с корчмой, которую знал каждый уважающий себя житель городка; это заведение и было главным источником его дохода. В корчме можно было узнать все городские и окрестные новости, доходили сюда известия из Варшавы и других земель.
Времена стремительно менялись, королевская власть и ее основная сила – шляхта – набирали мощь. Расширялось влияние и католической церкви. Различного рода посланники, а с ними и жаждущие наживы двинулись на восток, оттесняя русских князей и православную веру. Немало таких людей проходило через городок, который находился на путях их движения. В один из дней беспокойный посетитель корчмы выспрашивал, где найти место для временного проживания. И тут Шмеля вспомнил о своем дворике да и предложил его за немалую цену незнакомцу. Тот осмотрел жилище и согласился там поселиться, несколько сбив после бурных объяснений плату за проживание. У Шмели появилось еще одно доходное место, которое стало приносить червонцы к его никому не ведомым богатствам. Правда, пришлось немножко потратиться для приведения дворика и жилища в более привлекательный вид и поиздержаться на прислуге – паненке Лизе, женщине уже не молоденькой, но еще довольно интересной, и в ней Шмеля тоже не ошибся. Вскоре можно было заметить во дворике приезжих и странствующих людей, которые, пожив некоторое время, съезжали; тут же приезжали другие. Были случаи, когда незнакомцы жили целую зиму, принося еврею немалые барыши. А когда жильцы выпивали в корчме, громко рассказывали об услугах, которые оказывала им Лиза. Такого безобразия просто так Шмеля допустить не мог и вскоре не только перестал оплачивать работу бедной служанки, но и требовал еще отдавать ему часть получаемого дохода от предоставляемых услуг, отчего между ними возникали частые споры, переходящие в неприличную ругань. Постепенно разногласия между ними были улажены, а дворик приобрел в городке славу не только скромной ночлежки, но и места для приятного проведения времени.
В корчме Шмели собирался разночинный люд, от которого можно было узнать новости, выходившие далеко за пределы польских земель. Один из посетителей, бойкий молодой человек, после изрядно выпитого вина громко и, главное, складно излагал такому же пройдохе о епископе, прозвища которого хозяин корчмы не расслышал, ибо молодой человек произнес его, наклонившись почти к уху собеседника. А дальше, после слов «… имеет трех жен и молоденькую прислугу», оба разразились громким смехом и опять перешли на шепот, из которого Шмеля понял, что для епископа это может иметь очень неприятные последствия и теперь священнику надо думать, как выходить из этой ситуации: или лишиться сана, или пойти под главенство папы. Еще долго сквозь смех можно было расслышать что-то вроде «… а святейшество не промах, осенил себя крестом – и безгрешен». Шмеля тогда, вздыхая, кидал свой взор на паненку Матильду, разносившую к столам еду и вино, вспоминая свою молодость и долгую жизнь с женой, подумывая, кто бы его осенил крестом и уберег от очаровательной паненки.