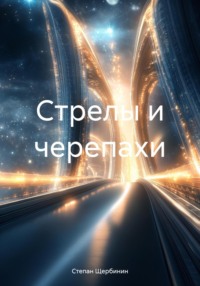Полная версия
Превратности Фортуны
Сзади раздался зловещий, отливающий металлом хохот. Не надо было оборачиваться, чтобы понять: Корнелиус распутался с препятствием и снова преследует нас. Пастухи и часть коров обратили свои взоры в нашу сторону. Я же бежал к ним уже из последних сил, отставая от Аделаиды, которая и не думала замедляться. Мелькнула тревожная мысль: а что могут сделать пастухи с этим механическим чудищем? А если они вообще с ним заодно?
Тот самый пастух в жёлтых одеждах, пастух-владыка, двинулся в нашу сторону. Хоть и был он ещё далеко, взгляд мой неожиданно на нём сфокусировался, и я смог рассмотреть его во всех подробностях. Только, странное дело, в момент фокусировки он перестал походить на человека из плоти и крови, но скорее выглядел как сошедшее с картины изображение: изящное лицо с почти женскими чертами казалось чуть ли не мраморным, если бы существовал в природе мрамор такого синеватого, почти светящегося, оттенка. Спадавшая же на грудь гирлянда цветов, напротив, выглядела совершенно реалистично, даже чересчур: я мог видеть на лепестках каждую складку и дрожащие на них капли росы. Такой же была и висевшая у него на поясе флейта.
Пастух-владыка сделал навстречу нам всего пару шагов – и вот уже поравнялся с нами, хотя только что нам до него было ещё бежать и бежать. Едва он оказался рядом, как меня обволокло такое спокойствие и умиротворение, что я понял: я спасён. Можно было расслабиться, что я и сделал, с удовольствием повалившись в травяные волны, краем глаза заметив, как то же самое осуществила Аделаида.
Я наблюдал, как пастух-владыка спокойно стоит на пути Корнелиуса, который то хохотал, то подвывал и нимало не убавлял своей ярости. Надо сказать, что теперь я, сколько ни силился, не мог увидеть в Корнелиусе кибернетический механизм, а видел его только как хищное зеленокожее создание из плоти и крови. Откуда-то я даже знал, что такие создания зовутся ракшасами.
Пастух-владыка плавным движением снял с пояса флейту, приложил к губам и легонько дунул. Я ожидал услышать воздушную мелодичную трель, перелив или что-то наподобие, однако вместо этого пространство вокруг заполнила без остатка мощнейшая вибрация, которая шла, казалось, из самого сердца Вселенной, не иначе это был осколок предвечного ритма, родившегося в момент Большого взрыва, а то и раньше. Это же тот самый звук “Ом”, про который я читал в древнеиндийских текстах, понял я.
Корнелиус взвыл, только теперь это был не грозный вой убийцы, настигающего жертву, но жалобный скулёж провинившегося пса. Он упал, судорожно калеча когтями траву и хватая воздух раззявленной пастью. Пастух-владыка же спокойно привесил флейту на пояс, подошёл к поверженному чудищу и, сняв с пояса зелёную ленту, повязал вокруг лба Корнелиуса.
– Ступай, – сказал пастух Корнелиусу, – и больше не поступай дурно. Лента, что я повязал тебе на голову, будет причинять тебе невыносимую боль, стоит тебе замыслить неблагое. Можешь пытаться снять её сколько угодно: ничего не выйдет.
Корнелиус поспешно вскочил на ноги и затрусил в сторону гор. Что, гор? Да, там, откуда мы пришли, высились горы, а никакая не стена Хребта Дхармы. И ладно горы! Взглянув вверх, я не смог разглядеть ни плазменных шнуров, протянувшихся вдоль потолка, ни самого потолка: были там лишь бескрайняя синева неба и полыхающий диск солнца. А не схожу ли я с ума, спросил я себя. Однако охватившее меня умиротворение было настолько подлинным и несомненным, что я ответил себе: подумаешь, Сурентий, сходишь так сходишь, зачем переживать из-за какой-то ерунды.
Пастух-владыка обернулся к нам.
– Этот ракшас больше никому не сможет навредить. Я направил его на путь искупления, ведущий к спасению, – сказал он, наклоняясь к Аделаиде и подавая ей руку, чтобы помочь встать. – Вы теперь в безопасности, – он едва заметно подмигнул мне.
– О, Хари! – воскликнула Аделаида, вскакивая на ноги и прижимаясь к груди нашего спасителя.
Тот, широко улыбаясь, повернул голову, будто бы стараясь увидеть что-то за своей спиной.
– Что такое? – спросила Аделаида.
– Да смотрю, как бы высокие груди этакой красавицы не пронзили мою спину насквозь, – расхохотался пастух, Аделаида тут же отпустила его и смущённо отступила.
Позвав жестом за собой, наш спаситель направился к стаду, и мы последовали за ним. По пути я всё пытался его разглядеть, но это было не так-то просто. Вернее, в каждый отдельный момент это было легко, но вот связать эту вереницу изображений в единый образ не получалось. Я видел его то как схематичное двумерное изображение с картины, то как подробно детализированную статую, то как человека, но по частям, притом разноцветным и разноформенным, то как бы подобно месяцу, но вместе с тем и отлично от него, а то и вовсе как след на сетчатке от взмаха радужного крыла попугая.
– Почему ты назвала его Хари? – спросил я по пути Аделаиду.
– А кто же это ещё, по-твоему, такой? – удивилась она.
Я вспомнил, что “Хари” – это обращение к Всевышнему Богу на санскрите в древней Индии, и подумал: в самом деле, кто же ещё это может быть? Потому и не получается его нормально рассмотреть! Он не может выглядеть совсем как человек, но невооружённым взглядом в нём должна быть заметна божественная ипостась.
И, кстати, на каком языке говорит пастух-владыка? Я задумался, перебирая в памяти его слова. Как будто санскрит, а как будто и русский. Но одновременно с этим не санскрит и не русский. Вот дела, заключил я про себя.
Мы достигли стада коров (сколько я ни моргал, не удавалось увидеть в них хоть на секунду служебных роботов) – и мне стало не до моих мыслей. Пастухи и пастушки принялись петь и танцевать, восхваляя Говинду (так они называли нашего спасителя). Тот же снял с пояса флейту и тоже включился в звуковую феерию, но на этот раз звучание его инструмента вполне соответствовало внешнему виду того, было нежным и лёгким. Мелодия флейты подхватила меня, и я сам не заметил, как растворился в музыке и танце вместе с пастухами и пастушками. Коровы, казалось, тоже довольно двигали головами и крутили хвостами в такт музыке.
Танцуя и веселясь, мы отправились к лесу у реки. Там нас с Аделаидой выдали одежды, такие же, как у остальных, чтобы мы сменили пропотевшие в результате наших приключений наряды. Я натправился к реке, чтобы искупаться и переодеться.
По пути я ощутил спазмы в животе и острое брожение газов внутри кишечника, так что поспешил пристроиться под ближайшим деревом, где меня настигло озарение: вот она, оказывается, какая, большая нужда! Не утомляя читателя излишними подробностями, могу сказать лишь, что ни разу в жизни я так не испражнялся. Это было подобно мастерскому удару, и не хватало разве что осколка газеты. Никогда раньше я не чувствовал такого облегчения, как тогда, выпуская ровную заключительную струю. У меня было чувство, будто я скинул с себя груз прожитых лет.
Омываясь в реке, я ощутил во всём своём естестве такую лёгкость, словно меня покинули не только физиологические нечистоты, но и забившие мой ум нечистоты ментальные. На сердце было легко, а в голове – светло; вспоминать Фортуну и приведший меня сюда путь было неохота – и я не делал этого. Я совершенно не думал о том, кто я, где я и уж тем более, как я здесь очутился и зачем.
Выйдя из воды, я обнаружил, что лес стремительно окутывают сумерки. Оказалось, что, занимаясь своими делами, я не заметил наступления вечера. Солнце постепенно скрывалось за вершинами гор, и пространство между плотно теснящимися деревьями, усеянными одуряюще пахнущими белыми цветами, затапливала темнота.
Выданная мне одежда выглядела по большей части просто как полотнища ткани, но я откуда-то знал и понимал, как их свернуть и закрепить на теле, что я и сделал. А затем отправился по одной из лесных тропинок в произвольном направлении, без какой-то особой цели. Думать было не о чем, и голова заполнилась блаженным безмыслием. Я просто шёл по лесу, наблюдал беззастенчивую весну, пресуществлявшуюся через цветение всевозможных растений. От благоухания цветов было невозможно, да и не нужно, укрыться: оно заполняло собой, казалось, всю Вселенную, не оставляя места для меня, растворяя меня в себе.
Моих ушей коснулись звуки медленной, нежной песни, в которой пелось о Книге Жизни, и Книга эта рассказывала о земле небесной красоты, где ходом дней правит царь королей Мадхусудана. Мелодия и слова этой песни очаровали меня совершенно. Увлечённый, я пошёл на эти звуки, с наслаждением вдыхая освежающий, напоенный ароматом сандала ветер с гор, от лёгких касаний которого нежно подрагивали побеги цветущей гвоздики. В убежищах древесной листвы жужжали пчёлы и куковали резвые птички, серые крыльями, но полосатые телами, словно одетые в тельняшки. Я улыбнулся от мысли, что птички эти издают свои сладкозвучные громкие “Ку-ху! Ку-ху!”, выражающие великую радость, вызванную видом нежных бутонов, усеивающих манговые деревья.
Песня становилась всё ближе, мелодия в ней несколько поменялась, стала немного быстрее, зазвучала слегка бодрей. Теперь поющие рассказывали о том, что обретший вид черепахи Кешава держит своей необъятной спиною земную твердь и прибавляли: “Славься, о Хари, наш царь”. Я приметил, что каплей сандала на прекрасном лике небосвода взошла луна и озарила переплетением своих лучей лесные недра.
После очередного поворота тропинки деревья расступились, явив моему взору поляну, на которой я увидел улыбающегося Хари, танцующего в окружении пастушек. Умащённый сандалом, в жёлтых одеяниях на синем теле, с ниспадающей на грудь гирляндой лесных цветов и драгоценными серьгами в ушах, он веселился здесь в игривом окружении юных, прелестных барышень. Одна из них любовно прижималась к нему тяжестью своих пышных грудей и пела хвалу Хари, который, как следовало из слов этой хвалы, ведомый величайшим состраданием, принял однажды обличье Будды.
Какая-то пастушка увлекла меня в круговорот движения, и на время я забыл обо всём, танцуя, пока ко мне не обратился Хари. Остановившись, чтобы внимать его речам, я в мельчайших подробностях разглядел схватывающий волосы обруч с павлиньим пером, круги на котором переливались отражённым лунным светом, и сандаловый знак на лбу, что мягко мерцал чуть ли не ярче плывущей сквозь гряду облаков луны; лица же рассмотреть не удавалось.
Хари завёл речь о некой барышне, которая стрелой своего чарующего взора, выпущенной луком изогнутых бровей, уязвила его терзанием в самое сердце, чёрная же волна волос умножила смятение, а губы, алые, как бимба, длят плен этого очарования. Как это, подивился он, такая чудно извитая округлая грудь может играть моей жизнью?
О ком это он, призадумался я.
Хари же продолжал свою речь о всё той же барышне. О том, что она удалилась, увидев его в хороводе пастушек, а он, охваченный неожиданной робостью от своей провинности, не смог её удержать. Она ушла в гневе, говорил Хари, она решила, будто не нужна мне, я же теперь размышляю о её лице с бровями, изломленными тяжестью гнева, о лице, подобному красному лотосу, что смущён витающим вокруг шмелём.
Я сочувственно покивал, не вполне понимая, куда он клонит.
И тут Хари перешёл к просьбе. Он попросил меня (почему меня?) сказать ей, чтоб она его простила, ведь впредь он больше не причинит ей ничего такого. О, сказал он, как бы устроить так, чтобы прекраснобёдрая даровала мне, горящему любовью, наслаждение. Иди к ней, заключил он, умилостивь и приведи её ко мне.
Только я хотел раскрыть рот, чтобы спросить: а кого, собственно, её-то, – как меня пронзило осознание: Аделаида! Не могло быть никаких сомнений в том, что речь именно о ней. Точно так же не возникло у меня ни на секунду сомнений, идти или нет. Конечно, идти. Как-то там она, где-то там она?
Я отправился в путь, не особо задумываясь о выборе направления: ноги сами куда-то несли меня по бегущей сквозь чащу тропинке. Уже совсем стемнело, но луна светила так ярко, что я легко подмечал всевозможные детали: ярко-красные цветы на фоне круглых зубчатых листьев, остроконечные алые цветы, пропитанные благоуханием мускуса гирлянды молодых листьев; а ещё: трепетание покрытых бутонами манговых деревьев, дрожание охватывающих их лиан, скопление роёв пчёл в тихих зарослях у многочисленных цветов. Да что там: я даже мог разглядеть пыльцу, которой словно благовонной пудрой осыпали всю растительность едва распустившиеся белоснежные цветы.
Тропинка вывела меня к беседке из бамбука. Проходя мимо, я на всякий случай окликнул Аделаиду, и в ответ услышал её голос из беседки. Заглянув внутрь, я увидел её, в который раз приятно подивившись, насколько прекрасны её бёдра, натурально подобные хоботу слона. Одетая в жёлтые одежды, она возлежала на покрытой тростниковыми циновками земле; на руках её были браслеты из каких-то растительных волокон, а на ногах – металлические золотистые кольца, да и вообще всяческих украшений на ней было в изобилии: ожерелье из драгоценных камней на пышной груди, серьги, броши на одежде, пояс из разноцветных шнуров с металлическими кружками по краям, а ещё цветы в волосах и цветочная гирлянда на шее.
– Сур, а что же Хари? – спросила Аделаида. – Видел ли ты его?
– Видел, – ответил я и неожиданно для самого себя перешёл на возвышенный штиль:– Осиянный венком лесных цветов, он томится от разлуки с тобой, подруга!
– Да? – в величайшем волнении приподнялась на локте Аделаида и я, казалось, увидел, как, наэлектризовавшись от страсти, встали дыбом волоски на её теле, даже будто услышал лёгкий электрический треск.
– О да! Шепчет твоё имя, словно молитву, изнемогая от жажды вкусить мёд твоих грудей.
Аделаида издала сдавленный радостный стон, и, распрямив руку, на которую опиралась, обмякла, оседая на пол.
– А ещё он играет твоё имя на своей флейте, потому не медли ни мгновения! Иди, прекраснобёдрая, туда, где ждёт тебя владыка твоего сердца, – воодушевлённо продолжал я, и слова лились, минуя разум, откуда-то из неосознаваемых глубин того естества человека, что принадлежит не ему одному. – На ложе из ароматных трав возложи на него тайную сокровищницу радости, сокрытую в округлых чертогах твоих бёдер.
– Ох, – задыхаясь, выдохнула Аделаида. – Я… сейчас, да.
Она встала и, с трудом сделав пару шагов к выходу из беседки, осела обратно на тростниковую циновку.
– Н-не, – виновато взмахнула она ресницами, глядя на меня. – Не получается. Не могу.
Я понял: нет никакой надежды на то, что Аделаида переместится хоть сколько-нибудь далеко. Настолько она охвачена всеобъемлющей страстью, что идти неспособна совершенно.
– Ясно, – кивнул я. – Пойду до него, позову его.
– Да! Пожалуйста! – вскинула она своё раскрасневшееся лицо. – Только поскорее, молю тебя.
Так что я отправился обратно. Кажущийся полностью естественным вопрос: а с какой такой стати я вообще бегаю у этих двоих на посылках – у меня не возникал тогда даже в виде тени мысли. Оглянувшись на пороге беседки Аделаиды, я заметил, что она, словно загипнотизированная, вглядывается в самоцветы своих украшений, наверняка воображая самое себя пастухом-владыкой.
Войдя в положение женщины, охваченной страстью в ожидании возлюбленного, обратно я шёл значительно быстрее и целеустремлённее.
– О владыка Хари, – сказал я ему, без церемоний пройдя сквозь хоровод пляшущих пастушек, – она изнемогла в своей беседке от жажды любви настолько, что едва дышит от тяжести цветочной гирлянды у неё на груди. Погрузившись в созерцание, она воображает тебя, находящегося пред нею. Она вздыхает и смеётся, жаждет и мечется, дрожит и скорбит, оскорблённая разлукой с тобой. Она произносит: “Сит!” – оттого, что все волоски на её теле охвачены дрожью. Если ты, словно небесный лекарь, окажешь ей милость, то неужели эта красавица, охваченная столь прекрасной болезнью, не воспрянет от твоего исцеляющего нектара?
Пастух-владыка улыбнулся и кивнул мне, предлагая отвести его. И мы, проскользнув сквозь кольцо пастушек, отправились в путь к женщине, готовой принять возлюбленного. Мы шли молча, лишь Хари играл на своей флейте, а я шёл, танцуя под эту мелодию. И танец этот, с которым я шёл рядом с ним, оставался неисполненным до сего дня. Я понял, что проводил все дни мои, настраивая и перестраивая себя, чтобы уловить этот ритм, но он всегда ускользал от меня. Теперь же мой танец под этот ритм словно сбросил с себя одежду, мешавшую единению с ритмом. Не осталось на нём теперь нарядов и убранства, что омрачили бы союз меня, танца и ритма.
Как жаль, что путь до беседки Аделаиды был так недолг! Но делать нечего: оставив Хари на пороге, я двинулся дальше на звуки других песен, которыми этим вечером был полон лес и быстро нашёл людей, с которыми пел, плясал, ел фрукты и пил напитки, иными словами, веселился вволю, пока, изнеможённый от счастья, не улёгся у подножия какого-то роскошного дерева, покрытого похожими на шарики оранжевыми цветами и, разглядывая питающихся лунным светом куропаток, не заметил, как заснул.
Утром я пробудился в тревоге от ощущения смутного беспокойства. Дело было не в месте, с местом было всё в порядке: здесь безвременно царила беспричинная безмятежность, в которой хотелось раствориться без остатка. Дело было во мне: что-то ворочалось, ёрзало, саднило в сердце. Я силился понять, в чём причина, но не мог: прошлое было подёрнуто туманом, я никак не мог проскользнуть туда вниманием, а причина коренилась именно там. Какие-то мои неблагие дела, последствия которых я ощущал сейчас на себе. Эти последствия были словно выщербины, за которые цеплялась струящаяся вокруг безмятежность и оттого вихрилась, как будто выталкивая меня. Нет, не так: безмятежность была готова принять меня и растворить в любой момент, но это я из неё выталкивался своим выщербленным несовершенным существом. Стало ясно, что мне пора отправляться в путь. Есть ещё дела, которые мне предстоит свершить, дабы сгладить последствия моего неблагого прошлого.
Я отправился на поиски Аделаиды: надо было попрощаться. И довольно скоро я нашёл Хари с Аделаидой по звонкому смеху пастухов и пастушек. Окружив их весёлой толпой, те смеялись оттого, что эти двое перепутали одежды: на Хари были одежды Аделаиды, а на Аделаиде – Хари. Они стояли посреди этого смеющегося хоровода, деланно смущаясь, а на деле пряча улыбки.
Когда все вдоволь нарадовались этому эпизоду, я подошёл к паре возлюбленных и объявил, что мне пора идти дальше. Аделаида принялась горячо убеждать меня остаться.
– Здесь я обрела ту самую свободу, – говорила она, глядя мне в глаза, и блики солнца в её глазах казались отблесками предвечного света, – которую я всегда искала. Я поэтому никогда ни в кого не влюблялась. Проводя время со множеством мужчин, я сохраняла невинность своего естества. Моё сердце изначально предназначалось Ему.
– Сур, – добавила она проникновенно, – оставайся и ты. В тебе тоже есть этот свет.
– Ты видишь свет во мне, но это есть твой собственный свет, – возразил я.
– А никакого другого света и не существует, – ответила она.
Я покачал головой. Я понимал, о чём она говорит, и, конечно, тоже страстно хотел слиться с этим светом. Это не было страшно, наоборот, ничего прекраснее этого не было, и это единственное во всём мире, что способно уничтожить извечный страх, преследующий человеков с зари времён. Однако я пока не мог слиться с ним, ибо слишком острым было чувство, что не всё ещё я сделал. Аделаида была чиста, невинна и безгрешна, я же был не таков, мне ещё предстояло искупить последствия моих прошлых деяний.
Я повернулся к Хари, и он кивнул мне: ему не надо было ничего объяснять, он знал всё, что томило моё сердце, ещё до того, как я сам мог это осознать. Подойдя к дереву, Хари, не прилагая никаких видимых усилий, отделил от ствола толстую ровную ветку, затем стукнул ею о ствол три раза, и с неё опали все листья, оторвались мелкие веточки и отлетели все сучки. Он протянул мне этот дорожный посох, и я с благодарностью принял его.
Простившись с ним, Аделаидой, пастушками и пастухами, я отправился туда, где, как мне сказали, находился мост через реку.»
На этом месте я решила, что сегодня мне хватит чтения. Тем более что история, которая от страницы к странице становилась всё страньше и страньше, как раз подошла к завершению какого-то промежуточного этапа. Потому, отложив распечатку, я отправилась спать, и сны мои оказались навеяны прочитанным: цветущие джунгли, сладковато-травянистый запах пыльцы, что покрывает всё вокруг, и цветы всевозможных форм и оттенков.
Из этих снов не хотелось просыпаться, так что пробудилась я довольно поздно и обнаружила сообщение от Перфидия. Великий сыщик интересовался, далеко ли я прочитала. В ответном сообщении я объяснила, докуда дошла, и добавила, что не очень-то мне понятно, чего в этом рассказе происходит. Пока я завтракала, от Перфидия пришло новое сообщение, где он предложил встретиться и всё обсудить, добавив, что приведёт Сурентия для «так сказать, консультаций от первоисточника».
Присланный Перфидием автомобиль доставил меня к дверям кафе, зал которого оказался завешен полотнищами с многорукими бабами и мужиками. Один из мужиков вдобавок был с головой слона. Или это была плоскогрудая баба? Внутри меня уже ждали улыбающийся Перфидий и смурной Сурентий, потягивающие из высоких стаканов какую-то бледно-зелёную жижу сомнительного вида, про которую было известно, что это «традиционный индийский бханг». Понюхав стакан Перфидия, я решила воздержаться от этого деликатеса и заказала себе обычный молочный коктейль, обойдясь без еды, ведь я только позавтракала.
– Ну как тебе? – спросил Перфидий. – Интересно?
Я сообразила, что это он про распечатку.
– Интересно, только ничего не понятно.
– Что, например?
– Да всё. Хотя бы вон те коровы. Это коровы или служебные роботы? А если роботы, то как они там оказались? Ведь в Зелёном нутре Ефросиньи должны ломаться все механизмы, верно? И Корнелиус этот тоже. Он же роботом стал? Почему не сломался?
Перфидий переглянулся с Сурентием.
– Эффект Буркина—Лукьяненко, – пожал плечами Перфидий.
В ответ я развела руками, мол, всё равно ничего не понятно.
– Давай попробую, – пришёл на помощь Сурентий. – Я так это понимаю. Когда на Ефросинье случилась катастрофа, то в Зелёном нутре растрескалась обыденная реальность, и сквозь трещины ворвалась реальность мифологическая. На те вещи, которые в реальности мифологической невозможны, индуцировались подходящие им образы. Служебные роботы стали коровами, боевые киборги – ракшасами. Наноботы, обслуживающие систему полива и прочее, стали… не знаю, духами, может быть?
– То есть техника там всё же работает?
– Видно, только та техника, которая была внутри, когда случилась катастрофа и разорвалась обыденная реальность. На неё смогли индуцироваться образы мифологической реальности. Может, такое индуцирование возможно было только во время перехода от обыденной реальности к мифологической. А сейчас сложные механизмы, оказываясь на Зелёном уровне Ефросиньи, просто ломаются.
– Хммм.
Я наморщила нос, потёрла лоб. Не то, чтобы я много поняла из этого объяснения, даже наоборот. Однако было неясно, за какую часть его ухватиться и выспрашивать подробности. Поэтому перешла на другую тему:
– А что за пастух-владыка?
Сурентий и Перфидий опять переглянулись.
– Это же Кришна, – объяснил Сурентий.
– Тот самый? – удивилась я. – Который с Арджуной говорил? Из «Бхагавад-гиты»?
– Скорее из «Гитаговинды», – поправил Сурентий.
А затем, глядя на моё недоумение, объяснил, что образ Кришны в коллективном сознании индусов претерпел значительную эволюцию на протяжении тысяч лет. Так, «Бхагавад-гита» была написана где-то за три сотни лет до рождения Христа, а «Гитаговинда» – через полторы тысячи лет после него. При чтении «Бхагавад-гиты» невозможно не заметить её глубокое духовное и нравственное содержание даже профану, а если же читать «Гитаговинду», не зная, что это великий священный текст, то по незнанию его можно принять за историю эротических приключений влюблённой парочки.
– Происходившее в лесу пастуха-владыки почти дословно повторяет «Гитаговинду», описывающую перипетии взаимоотношений Кришны и Радхи.
– Радхи? – переспросила я незнакомое слово.
– Да, Радхи, – кивнул Сурентий. – Это главная жена Кришны, его вечная возлюбленная, полный аватар Лакшми.
– Именно поэтому, – вклинился Перфидий, – Калагуру и не смог её завербовать. Потому что она с самого начала была предназначена Кришне. Думаю, что её участие в экспедиции было предрешено. Благодаря этому она побежала от того ракшаса именно туда, где чувствовала присутствие Кришны.