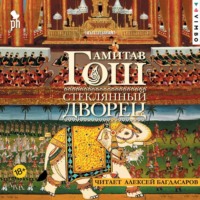Полная версия
Стеклянный Дворец
– Сейчас никто не может подойти близко из-за страха заразиться. – Сая Джон говорил, задыхаясь, на ходу. – И в любом случае у них есть гораздо более насущные заботы.
– Более насущные, чем тело друга?
– Гораздо более. Они могут потерять все: животных, работу, средства к существованию. Погибший человек отдал свою жизнь, чтобы не дать этому слону заразить остальных. Ради него они обязаны уберечь остальное стадо от опасности.
Раджкумар повидал немало эпидемий – тиф, оспа, холера. Одна из болезней забрала его семью, для юноши был привычен риск, что несла с собой каждая эпидемия. И потому Раджкумар поверить не мог, что у-си так легко бросили тело своего товарища.
– Они бегут, как будто за ними тигр гонится!
Сая Джон обернулся и крикнул с неожиданной для него яростью:
– Осторожнее, Раджкумар! Сибирская язва – это чума, и Господь насылает ее в наказание за гордыню.
Голос его хоть и прерывался от быстрой ходьбы, зазвучал торжественно, как бывало, когда он цитировал Библию:
– И сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона; и поднимется пыль по всей земле Египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами, во всей земле Египетской[41].
Раджкумар понял из этого только несколько слов, но самого тона Сая Джона было достаточно, чтобы он умолк.
Вернувшись в лагерь, они обнаружили, что тот опустел. До Сай и все остальные увели слонов подальше. Остался только старшина, хсин-оук, – дожидаться комиссара. Сая Джон решил задержаться с ним за компанию.
На следующий день с утра пораньше они вернулись на место трагедии. Заболевший слон, одурманенный болью и ослабевший от борьбы с болезнью, вел себя тише, чем накануне. Шишки на его шкуре увеличились до размера ананаса, кожа натянулась и пошла трещинами. Спустя еще несколько часов язвы сделались обширнее, обнажилось мясо. Вскоре пустулы начали сочиться белесой слизью, и шкура животного заблестела от выделений. Ручейки гноя с прожилками крови ползли по телу слона, капали на землю. Почва вокруг ног животного постепенно обращалась в топкую грязь из-за крови и слизи. Раджкумар не мог больше выносить это зрелище. Он согнулся пополам, подобрав лоунджи, и его вырвало.
– Если даже на тебя так подействовало, Раджкумар, – сказал Сая Джон, – представь, каково у-си видеть, как погибают их слоны. Они нянчатся с ними, как с родственниками. Но когда болезнь развивается до такой стадии, все, что остается погонщикам, это смотреть, как гора живой плоти разлагается прямо у них на глазах.
Зараженный слон умер к середине дня. Вскоре после этого хсин-оук с помощниками забрали тело товарища. Сая Джон и Раджкумар издалека наблюдали, как растерзанный труп переносили в лагерь.
– Они взяли пепла из печи, – тихонько себе под нос процитировал Сая Джон, – и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления; потому что воспаление было на волхвах и на всех Египтянах…[42]
Раджкумар стремился как можно скорее убраться из лагеря, удрученный событиями последних дней. Но Сая Джон был неумолим. Хсин-оук – мой старый друг, сказал он, и он останется рядом с ним, пока погибший у-си не будет похоронен и мытарства его не закончатся.
В обычных обстоятельствах похороны были бы устроены немедленно, как только вернули тело. Но из-за отсутствия лесного комиссара возникла непредвиденная заминка. По обычаю умерших официально освобождали от плена земных уз подписанием специальной расписки. Нигде этот обряд не соблюдался строже, чем среди у-си, которые проводили всю жизнь в ежедневном ожидании смерти. Документ об освобождении покойного должен быть подписан, и только комиссар, как работодатель, мог его подписать. Гонца к нему отправили. Ожидалось, что тот вернется на следующий день с подписанной запиской. Оставалось только переждать ночь.
В лагере не было никого, кроме старшины погонщиков, Раджкумара с Сая Джоном да нескольких слуг в доме комиссара. Раджкумар долго лежал, не смыкая глаз, на террасе. Таи в центре лагеря сияла огнями. Луга-лей комиссара запалил все лампы, и во мраке джунглей пустая хижина обрела некое жуткое величие.
Поздно ночью Сая Джон вышел на террасу выкурить сигару.
– Сая, почему хсин-оук должен так долго ждать похорон? – с ноткой досады спросил Раджкумар. – Что плохого случится, Сая, если похоронить мертвого сегодня, а бумагу получить позже?
Сая Джон глубоко затянулся, красный кончик чируты отражался в его очках. Он так долго молчал, что Раджкумар забеспокоился, расслышал ли он вообще вопрос. Но в тот момент, когда мальчик уже готов был повторить, Сая Джон заговорил.
– Я однажды был в лагере, – сказал он, – где произошел несчастный случай и погонщик погиб. Тот лагерь был недалеко отсюда, максимум два дня пути, и стадо было в ведении моего друга, здешнего хсин-оука. Несчастье произошло в самое напряженное время года, в конце сезона дождей. Работы были близки к завершению. Оставалось всего несколько штабелей, когда очень большое бревно рухнуло на берег чаунга, перегородив желоб, по которому скатывали в ручей готовый тик. Ствол застрял между двух пней так, что остановилось все, нельзя было скатить вниз никакие другие бревна, пока не убрали это.
Комиссаром в том лагере был молодой парень, лет девятнадцати-двадцати, по имени, если я правильно помню, Мак-Кей – Мак-Кей-такин[43], так его прозвали. Он прожил в Бирме всего два года, и это был его первый опыт самостоятельного управления тиковым лагерем. Сезон выдался долгий и трудный, дождь лил стеной несколько месяцев. Мак-Кей-такин гордился своими новыми обязанностями и работал на износ, проводя весь период муссона в лагере, не давая себе ни малейшей передышки, не уезжая из леса хотя бы на один выходной. Он перенес несколько тяжелых приступов лихорадки. Болезнь настолько ослабила его, что иногда он не мог собраться с силами, чтобы спуститься из таи. И вот когда сезон подходил к концу, ему пообещали месячный отпуск в приятной прохладе холмов Маймьо. В компании сказали, что он будет свободен, как только территория, находящаяся в его ведении, окажется очищена от бревен, которые помечены к вывозу. По мере того как приближался день отъезда, Мак-Кей-такин становился все более беспокойным, заставляя подчиненных работать все больше и больше. Когда работы были почти завершены, произошла эта неприятность.
Желоб заклинило около девяти утра, в это время рабочий день подходит к концу. Хсин-оук был на месте, и он немедленно послал своих людей обвязать бревно цепями, чтобы его можно было оттащить. Но бревно лежало под таким неудобным углом, что невозможно было надежно закрепить цепи. Хсин-оук сначала попытался передвинуть его, запрягая одного могучего буйвола, а когда не вышло, привел пару самых надежных слоних. Но все усилия были тщетны, бревно так и не сдвинулось с места. В конце концов Мак-Кей-такин, теряя терпение, приказал старшине отправить на склон самого большого слона, чтобы высвободить упрямое бревно.
Склон был очень крутым, а после того как по нему месяцами скатывали огромные бревна, поверхность его представляла слякотную жижу. Хсин-оук понимал, что у-си очень опасно вести слона по такой ненадежной почве. Но Мак-Кей-такином уже овладела агония нетерпения, и, будучи начальником, он одержал верх. Против собственной воли старшина вызвал одного из своих людей, молодого погонщика, который приходился ему племянником, сына сестры. Опасности предстоящего мероприятия были совершенно очевидны, и хсин-оук знал, что любой другой погонщик откажется, прикажи он вести слона вниз по склону. Но племянник – это другое дело. “Спускайся, – велел ему старшина. – Но будь осторожен, и если что, сразу поворачивай обратно”.
Спуск по склону прошел нормально, но едва бревно высвободилось, как юный погонщик поскользнулся и оказался прямо на пути катящегося двухтонного бревна. И произошло неизбежное: бревно раздавило его. Когда его поднимали, на теле не было открытых ран, но все кости были раздроблены, буквально размолоты.
Так случилось, что этого юного у-си очень любили и товарищи, и его подопечная, ласковая и добродушная слониха по имени Шве Доук. Она уже несколько лет служила этому юноше.
Те, кто хорошо знает слонов, утверждают, что они могут испытывать самые разные чувства – гнев, удовольствие, ревность, печаль. Шве Доук была абсолютно безутешна, потеряв своего погонщика. Не меньше горевал и хсин-оук, почти убитый собственным чувством вины и угрызениями совести.
Но худшее ждало впереди. Тем вечером, когда тело было подготовлено к похоронам, хсин-оук принес традиционное письмо освобождения Мак-Кей-такину и попросил его подписать.
К тому моменту Мак-Кей-такин был уже не совсем в здравом рассудке. Он осушил бутылку виски, и вдобавок лихорадка вернулась. Мольбы старшины не произвели на него никакого впечатления. Он попросту не понимал, чего тот от него хочет.
Напрасно хсин-оук объяснял, что погребение нельзя откладывать, что тело не сохранится, что человек должен получить освобождение перед последними обрядами. Он просил, он умолял, в отчаянии он даже попытался взобраться по лестнице и ворваться в таи комиссара. Но Мак-Кей увидел, что тот приближается, и вышел на террасу со стаканом в одной руке и тяжелым охотничьим ружьем в другой. Разрядив магазин в небо, он проорал: “Ради всего святого, можешь ты оставить меня в покое хотя бы на один вечер?”
Хсин-оук сдался и решил продолжить похороны. Тело покойного было предано земле, когда уже сгущалась темнота.
Я, как всегда, остановился на ночь в хижине старшины. Мы перекусили, а потом я вышел на улицу выкурить чируту. Обычно в это время в лагере людно и шумно: из кухни доносится громыхание жестяных мисок и металлических кастрюль, темноту пронзают яркие огоньки, где около своих хижин сидят у-си, смакуя последнюю сигару и дожевывая последнюю порцию бетеля. Но тут я, к своему изумлению, увидел, что вокруг ни души, я не слышал ничего, кроме пения лягушек, уханья сов и хлопанья крыльев гигантских ночных бабочек в джунглях. Отсутствовал и самый привычный и успокаивающий из звуков лагеря, звон слоновьих колокольчиков. Видимо, едва успев утрамбовать землю на могиле погибшего, остальные у-си сбежали из лагеря, прихватив с собой своих слонов.
Единственным слоном в окрестностях лагеря осталась Шве Доук, слониха погибшего парня. После случившегося хсин-оук принял на себя заботы об осиротевшем животном. Он сказал, что слониха нервничала, беспокойно переминалась, часто хлопая ушами и втягивая воздух кончиком хобота. В этом не было ничего необычного или неожиданного, поскольку слон, помимо всего прочего, существо привычек и рутины. Столь явные перемены, как отсутствие старого погонщика, могут вывести из равновесия даже самого миролюбивого слона, а это опасно.
Потому на всякий случай хсин-оук решил не пускать Шве Доук пастись ночью, как было заведено. Вместо этого он отвел ее на поляну в полумиле от лагеря и принес ей огромную кучу сочных ветвей с верхушек деревьев. Затем он накрепко привязал ее между двух громадных, прочно стоящих деревьев. Чтобы быть вдвойне уверенным, что путы надежны, он взял не обычные легкие цепи, которыми слонов привязывают на ночь, а воспользовался тяжелыми железными кандалами, которые применяют при транспортировке бревен. Это, сказал он, предосторожность.
– Предосторожность против чего? – удивился я.
К тому моменту глаза его помутнели от опиума. Искоса взглянув на меня, он ответил мягко и уклончиво:
– Просто предосторожность.
Теперь в лагере остались только мы с хсин-оуком и, разумеется, Мак-Кей-такин в своем таи. Хижина была ярко освещена, во всех окнах сияли лампы, и она казалась очень высокой на своих длинных тиковых сваях. По сравнению с ней хижина хсин-оука была совсем маленькой и жалась к земле, так что, стоя на террасе, мне приходилось запрокидывать голову, чтобы заглянуть в светящиеся окна Мак-Кей-такина. Пока я курил, стоял и смотрел, низкий пронзительный вой доносился из освещенных окон. Это был звук кларнета, музыкального инструмента, на котором такин иногда играл вечерами, чтобы скоротать время. Как странно было слушать эту жалобную меланхоличную мелодию, доносившуюся из ярко светящихся окон, звуки зависали в воздухе, пока не становились неотличимы от ночного шума джунглей. Именно так, подумал я, должен выглядеть океанский лайнер в глазах гребцов на каноэ-долбленке – надвигающаяся в ночной тьме махина, оставляющая за собой шлейф из обрывков музыки, что играет в танцевальном зале.
В тот день дождя почти не было, но с приближением вечера небо начали заволакивать тучи, и к тому времени, как я задул лампу и расстелил циновку, звезд уже не было видно. Вскоре разразилась гроза. Хлынул дождь, и гром грохотал над долиной, эхом отражаясь от склонов. Я проспал, наверное, час или два, когда меня разбудили струйки воды, просочившейся сквозь бамбуковую крышу. Поднявшись, чтобы перетащить циновку в сухой угол, я случайно глянул на лагерь. Внезапно при вспышке молнии из тьмы проступил силуэт темного таи, лампы больше не горели.
Я уже почти засыпал вновь, когда сквозь шум дождя расслышал слабый тоненький звук, отдаленный звон. Он доносился издалека, но неуклонно приближался, и я узнал звяканье слоновьего колокольчика, которое ни с чем не спутаешь. Вскоре в едва уловимой вибрации бамбуковых балок хижины я ощутил торопливую тяжелую поступь животного.
– Ты слышишь? – прошептал я. – Что это?
– Это слониха, Шве Доук.
У-си узнают слона по звуку колокольчика, и утром, идя на этот звук, они находят своего подопечного после того, как животное всю ночь паслось в джунглях. Хсин-оук должен знать звук каждого колокольчика в своем стаде, чтобы в случае необходимости по одному только звуку сразу определить, где находится каждый из его слонов. Мой хозяин был очень опытным и умелым хсин-оуком. И я знал, что нет ни малейшей вероятности, что он ошибся.
– Может, – сказал я, – Шве Доук испугалась грозы и в панике смогла разорвать цепи.
– Если бы она разорвала цепи, – возразил хсин-оук, – обрывки волочились бы следом. – Он помолчал, прислушиваясь. – Но я не слышу звяканья цепей. Нет. Ее освободили человеческие руки.
– Но чьи? – удивился я.
Он прервал меня, вскинув ладонь. Колокольчик теперь звучал совсем близко, и хижина тряслась от слоновьего топота.
Я двинулся было к лесенке, но хсин-оук оттащил меня назад:
– Не надо. Оставайся здесь.
В следующий миг небо прорезала молния. В короткой вспышке ярчайшего света я увидел, как Шве Доук идет прямиком к таи, опустив голову и подвернув хобот к губам.
Вскочив на ноги, я закричал:
– Такин, Мак-Кей-такин…
Мак-Кей-такин уже расслышал звон колокольчика, почувствовал дрожь земли под ногами приближающегося слона. В одном из окон таи мелькнул огонек, и молодой человек появился на террасе – с лампой в одной руке и охотничьим ружьем в другой.
В десяти футах от таи Шве Доук застыла как вкопанная. Еще ниже опустила голову, как будто осматривая постройку. Это была старая слониха, хорошо обученная разным работам. Такие животные очень умелы в искусстве разрушения. Им достаточно одного взгляда, чтобы оценить размер завала из застрявших деревьев и выбрать точку удара.
Мак-Кей выстрелил, едва Шве Доук приступила к делу. Она стояла так близко, что промахнуться он не мог, попал именно туда, куда целился – в самое уязвимое место, между ухом и глазом.
Но инерция движения понесла Шве Доук вперед, хотя она умирала стоя. И она тоже попала ровно в ту точку, куда целилась – в место соединения двух опорных балок. Казалось, что постройка взорвалась – бревна, балки и солома взлетели в воздух. Мак-Кей-такина отбросило на землю, через голову Шве Доук.
Искусный взрослый слон так ловко владеет своими ногами, что может балансировать на кромке водопада, садиться, как журавль, на небольшой валун посреди реки, поворачиваться в таком тесном пространстве, где и мул застрял бы. Именно такими мелкими, отточенными практикой шагами поворачивалась сейчас Шве Доук, пока не оказалась прямо перед распростертым телом комиссара. Затем, очень медленно, она позволила своему умирающему телу всей массой обрушиться на него головой вперед, перекатывающимися движениями, технически совершенным маневром опытного слона, – точка соприкосновения настолько точна, что слон одним ударом может распутать десятитонный клубок из тиковых стволов, как простой матросский узел. Лампа Мак-Кей-такина, мерцавшая рядом с его телом, погасла, и больше мы ничего не могли разглядеть.
Я бросился к лестнице, хсин-оук следом за мной. Подбегая к таи, я споткнулся в темноте и шлепнулся лицом в грязь. Хсин-оук помогал мне подняться, когда опять сверкнула молния. Он вдруг выпустил мою руку и издал хриплый, захлебывающийся крик.
– Что такое? – заорал я. – Что ты увидел?
– Взгляни! Посмотри на землю!
При следующей вспышке молнии прямо перед собой я увидел громадный зубчатый след стопы Шве Доук. Но рядом с ним был отпечаток поменьше, странно бесформенный, почти овальный.
– Что это? – испугался я. – От чего это след?
– Это след ноги, – сказал хсин-оук. – Человеческой, хотя раздавленной и искалеченной почти до неузнаваемости.
Я в ужасе застыл на месте, молясь, чтобы еще раз сверкнула молния, чтобы я сам мог убедиться в истинности того, что он сказал. Я ждал и ждал, но, казалось, прошла целая вечность, прежде чем небеса вновь осветились. А дождь тем временем лил с такой силой, что следы на земле смыло.
9
В 1905 году, на девятнадцатый год королевского изгнания, в Ратнагири прибыл новый районный администратор. Он, по сути, единолично отвечал за сношения с бирманской королевской семьей. Должность была важной, и на этот пост почти всегда назначали сотрудников Индийской гражданской службы – избранных, авторитетнейших среди кадровых чиновников, управлявших территорией Британской Индии. Чтобы попасть в Индийскую гражданскую службу, кандидаты должны были сдать трудные экзамены в самой Англии. Подавляющее большинство среди прошедших испытание были англичанами, но изредка среди них встречались и индийцы.
Администратор, прибывший в 1905-м, был индийцем по имени Бени Прасад Дей. Ему было чуть за сорок, и в Ратнагири он был чужаком – бенгалец из Калькутты, которая на карте Индии находилась ровно на другом конце по диагонали. Администратор Дей был худым и сутулым, нос у него заканчивался острым, похожим на клюв кончиком. Он одевался в элегантные костюмы с Сэвил-роу и носил очки в золотой оправе. В Ратнагири он прибыл в сопровождении жены Умы, которая была лет на пятнадцать моложе, высокая энергичная женщина с густыми вьющимися волосами.
Король Тибо с балкона наблюдал, как официальные лица Ратнагири собирались на пристани Мандви, чтобы приветствовать нового администратора и его молодую супругу. Первое, на что он обратил внимание, это необычный наряд мадам администратор. Озадаченный король передал бинокль королеве:
– Что это на ней надето?
– Это просто сари, – после долгой паузы проговорила королева. – Но она носит его в новом стиле.
И рассказала, что индийские чиновники придумали новый способ носить сари, со всякими мелочами, заимствованными из европейского костюма, – нижняя юбка, блузка. Королева слышала, будто по всей Индии женщины перенимают новый стиль. Но в Ратнагири, конечно же, все приходит с опозданием – сама она никогда не имела возможности ознакомиться с новой модой из первых рук.
Королева повидала множество официальных лиц, которые приходили и уходили, индийцы и англичане; она считала их своими врагами и тюремщиками, выскочками, не заслуживающими уважения. Но сейчас она была заинтригована.
– Надеюсь, он приведет с собой жену, когда явится с визитом. Было бы интересно узнать, как носят такое сари.
Несмотря на многообещающее начало, первая встреча королевской семьи с новым администратором едва не закончилась катастрофой. Администратор Дей и его супруга прибыли как раз в то время, когда политика серьезно занимала умы людей. Каждый день поступали сообщения о митингах, маршах и петициях, народ призывали бойкотировать товары британского производства, женщины разводили костры из ланкаширской ткани. На Дальнем Востоке шла война между Россией и Японией, и впервые, кажется, азиатская страна могла одержать верх над европейской державой. Индийские газеты полны были новостей об этой войне и о том, что это будет означать для колонизированных стран.
Не в обычаях короля было встречать чиновников, являвшихся в Аутрем-хаус. Но он очень внимательно следил за русско-японской войной и желал знать, что об этом думают люди. Когда гости появились на пороге, король первым делом заговорил о войне.
– Администратор-сахиб, – без преамбул начал он, – вы видели новости? Японцы разгромили русских в Сибири?
Гость сдержанно поклонился:
– Разумеется, я видел сообщения, Ваше Величество. Но должен признаться, что не склонен придавать этому событию такое большое значение.
– Вот как? Что ж, я удивлен. – Король нахмурился, давая понять, что не намерен оставлять эту тему.
Накануне вечером Уму и администратора подробно проинструктировали о предстоящем визите в Аутрем-хаус. Им рассказали, что король никогда не участвует в подобных мероприятиях, их примет королева в приемной на первом этаже. Но, войдя, они обнаружили, что король очень даже участвует: одетый в мятую лоунджи, он расхаживал по комнате, шлепая себя по бедру свернутой в трубку газетой. Лицо его было бледным и одутловатым, а редкие седые волосы в беспорядке сбились на затылке.
Королева же оказалась ровно такой, какой должна была быть, – она сидела в высоком кресле спиной к дверям. Ума знала, что это часть заведенного порядка: посетители должны войти и в полном молчании рассесться на низких табуретах вокруг Ее Величества. Так королева пыталась сохранить дух мандалайского протокола: поскольку британские представители были непреклонны в своем отказе выполнять шико, она, в свою очередь, взяла за правило не замечать их присутствия. Уме велено было держаться начеку в приемной и внимательно глядеть под ноги, на валяющиеся там и сям мешки с рисом и корзины с далом. Эту комнату иногда использовали в качестве кладовой, и несколько неосторожных посетителей уже имели несчастье попасть в коварные ловушки: запросто можно было наткнуться на горы перца чили, спрятанные под диваном, или горшки с соленьями на книжных полках. Однажды грузный суперинтендант уселся прямо на колючие кости сушеной рыбы. В другой раз почтенный старый окружной судья, застигнутый врасплох мощным ароматом перца, чихнул так, что его вставные зубы пролетели через всю комнату и с клацанием упали у ног королевы.
Эти “истории в приемной” вызвали у Умы большие опасения, побудив ее закрепить свое сари непомерным количеством заколок и булавок. Однако, войдя, она обнаружила, что обстановка подействовала на нее вовсе не так, как ожидалось. Ума не только не сконфузилась, но странным образом почувствовала себя спокойно среди привычных запахов риса и мунг-дала. В любой другой обстановке королева Супаялат, с ее лицом-маской и лиловыми губами, показалась бы жутковатым призраком, но домашние запахи, такие знакомые, словно смягчали черты королевы, разбавляли суровую непреклонность.
В противоположном конце комнаты король громко похлопывал по ладони свернутой газетой.
– Итак, администратор-сахиб, – сказал он, – думали вы когда-нибудь, что мы доживем до дня, когда станем свидетелями того, как восточная страна громит европейскую державу?
Ума затаила дыхание. За несколько последних недель администратор много раз вступал в жаркие споры о последствиях японской победы над Россией. Некоторые из них заканчивались взрывами гнева. Сейчас она с тревогой наблюдала, как ее муж откашлялся.
– Я убежден, Ваше Величество, – ровным голосом заговорил администратор, – что победа Японии вызвала бурное ликование среди националистов в Индии и, без сомнения, в Бирме тоже. Но поражение русского царя ни для кого не стало сюрпризом и нисколько не успокоило врагов Британской империи. Империя сегодня сильнее, чем когда бы то ни было. Стоит лишь взглянуть на карту мира, чтобы увидеть истину.
– Но со временем, администратор-сахиб, все меняется. Ничто не длится вечно.
Голос гостя зазвучал резче:
– Могу ли я напомнить Вашему Величеству, что хотя Александр Великий провел в степях Центральной Азии не более нескольких месяцев, основанные им сатрапии существовали и столетия спустя? Британской империи, напротив, уже более ста лет, и вы можете быть уверены, Ваше Величество, что ее влияние сохранится и на грядущие века. Могущество Империи таково, что она способна противостоять всем вызовам, и останется таковым в обозримом будущем. Я мог бы взять на себя смелость указать, Ваше Величество, что вас не было бы здесь сегодня, если бы вам объяснили это двадцать лет назад.