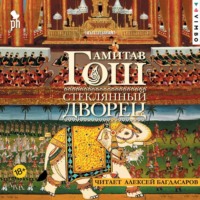Полная версия
Стеклянный Дворец
А потом выходили на работу отряды слонов, направляемые погонщиками – у-си и пе-си, слоны толкали, бодали, подтягивали хоботами. На землю укладывали полосы деревянных катков, и сноровистые па-киейк – цепных дел мастера, которые запрягали слонов и закрепляли бревна, – сновали между ног животных, застегивая стальную сбрую. Когда в конце концов бревна приходили в движение, трение при их перемещении было таким, что водоносам приходилось бежать рядом, поливая дымящиеся валки из ведер.
Доставленные к берегам чаунга бревна складывали штабелями и оставляли до того дня, когда потоки очнутся от спячки сухого сезона. С первыми дождями грязные лужицы вдоль ручьев оживали, потягивались и брались за руки, медленно поднимаясь и приступая к расчистке мусора, накопившегося за долгие месяцы засухи. А потом всего за несколько дней проливных дождей они вздымались в своих руслах, вырастая в высоту в сотни раз, и там, где неделю назад они сникали под весом прутиков и листочков, ныне уже швыряли вниз по течению двухтонные бревна, как оперенные дротики.
Так начиналось путешествие древесины к тиковым складам Рангуна: слоны сталкивали бревна по склонам в пенящиеся воды чаунгов. Следуя рельефу местности, бурливые воды проделывали путь от притока к притоку, пока не впадали наконец в полноводные реки равнин.
В засушливые годы, когда чаунги были слишком немощны, чтобы поднять столь могучий вес, тиковые компании терпели убытки. Но даже в хорошие годы они были ревнивыми, жестокими и требовательными надсмотрщиками – эти горные потоки. В разгар сезона из-за одного-единственного застрявшего дерева мог образоваться затор из пяти тысяч бревен и даже больше. Обслуживание этих бурных вод было отдельной наукой, со своими знатоками, экспертами, специальными командами погонщиков и слонов, которые проводили месяцы муссона, неустанно патрулируя лес, – это были знаменитые аунджин, слоны, искусные в трудном и опасном ремесле расчистки чаунгов.
Как-то раз, когда они укрывались за умирающим подрезанным стволом тика, Сая Джон вложил Раджкумару в одну руку листочек мяты, а в другую – опавший с дерева лист. Потрогай их, сказал он, разотри в пальцах.
– Тик – родственник мяты, tectona grandis, происходящий из того же рода цветковых растений, но от боковой ветви, во главе которой самая успокаивающая из трав, вербена. Среди его близких родственников много других ароматных и привычных трав – шалфей, чабер, тимьян, лаванда, розмарин и, что самое удивительное, священный базилик, со своим многочисленным потомством, зеленым и фиолетовым, с гладкими листиками и жесткими, острый и ароматный, горький и сладкий.
В Пегу росло некогда тиковое дерево, ствол которого тянулся вверх до первой ветви на сто шесть футов. Представь, какие были бы листья у мяты, если бы она выросла на сто футов от земли, не слабея и не клонясь, – стебель прямой, как отвес, а первые листья появляются почти на самом верху, собраны вместе и вытянуты, как ладони всплывающего ныряльщика.
Листик мяты был размером с большой палец Раджкумара, в то время как другой лист легко накрыл бы след слона; один – сорняк, годящийся, чтобы приправить суп, а другой упал с дерева, из-за которого рушились династии, начинались войны, рождались баснословные состояния и новый образ жизни. И даже Раджкумар, который никоим образом не был склонен поддаваться натянутым аналогиям или предаваться фантазиям, вынужден был признать, что между легкой ворсистостью одного и щетинистым, грубым мехом другого существовало безошибочное сходство, родство, ощутимая семейная связь.
Именно звуками слоновьих колокольчиков давали о себе знать тиковые лагеря. Даже приглушенный дождем или расстоянием, этот звук волшебным образом действовал на колонну носильщиков, удлиняя и освежая их шаг.
Независимо от того, сколько он прошел и насколько устал, Раджкумар всегда ощущал волнение в сердце, когда внезапно показывался лагерь – расчищенная поляна с несколькими хижинами, сосредоточенными вокруг таи, длинного деревянного дома на сваях.
Все тиковые лагеря были одинаковыми, и все они были разными, ни один лагерь не строился на одном и том же месте от сезона к сезону. Изначальную вырубку леса производили слоны, в результате чего поляны неизменно покрывались вывернутыми из земли деревьями и корявыми ямами.
В центре каждого лагеря стоял таи, и его всегда занимал лесной комиссар – представитель компании, организовавшей лагерь. На взгляд Раджкумара, эти таи были невероятно изящны и роскошны – построенные на деревянных платформах, опиравшихся на тиковые столбы, они возвышались футов на шесть над землей. Каждый дом был разделен на несколько больших комнат, расположенных анфиладой, выходящей на широкую веранду, с которой всегда открывался самый лучший вид. В лагере, где лесному комиссару прислуживал работящий луга-лей, веранда таи обычно была укрыта навесом из дикого винограда, цветы которого сияли, как угли, на фоне бамбуковых циновок. Здесь по вечерам сиживал комиссар, со стаканом виски в одной руке и трубкой в другой, любуясь тем, как солнце садится над долиной, и вспоминая свой далекий дом.
Они были отстраненными, угрюмыми людьми, эти комиссары. Перед встречей с ними Сая Джон всегда переодевался в европейское платье – белая рубашка, парусиновые брюки. Раджкумар издалека наблюдал, как Сая Джон подходил к таи, приветственно окликал комиссара снизу, почтительно положив руку на нижнюю ступеньку лесенки. Если его приглашали наверх, он медленно карабкался по лесенке, аккуратно переставляя ноги. Потом следовал шквал улыбок, поклонов, приветствий. Иногда Сая возвращался уже через несколько минут, а иногда комиссар предлагал выпить виски и приглашал остаться на ужин.
Как правило, комиссары были очень вежливы и любезны. Но однажды случилось так, что комиссар напустился с бранью на Сая Джона, обвиняя, что тот забыл что-то из заказанного.
– Вали отсюда со своей ухмыляющейся рожей! – орал англичанин. – Увидимся в аду, Джонни Китаец[33].
В то время Раджкумар еще плохо знал английский, но гнев и презрение в голосе комиссара распознал безошибочно. На миг Раджкумар увидел Сая Джона глазами англичанина: маленький, чудаковатый, по-дурацки выглядящий в своей неловко сидящей европейской одежде; его полноту подчеркивали залатанные парусиновые штаны, свисавшие складками вокруг лодыжек, а на голове кривовато пристроен пробковый шлем.
Раджкумар работал на Сая Джона три года и привык смотреть на него как на наставника во всех смыслах. И вдруг почувствовал, как в нем разгорается негодование и обида за своего учителя. Он бросился через поляну к таи, полный решимости взобраться по лестнице и сцепиться с комиссаром прямо на его собственной веранде.
Но Сая Джон уже торопливо спускался, мрачный и суровый.
– Саяджи! Можно я поднимусь?..
– Куда поднимешься?
– В таи. Показать этому ублюдку…
– Не дури, Раджкумар. Ступай займись чем-нибудь полезным. – И, раздраженно фыркнув, Сая Джон повернулся спиной к Раджкумару.
На ночь они остановились у хсин-оука, старосты погонщиков. Хижины, где обитали рабочие, стояли далеко позади таи – так, чтобы не загораживать вид комиссару. Это были маленькие домишки, свайные хижины с одной или двумя комнатами, каждый с небольшой терраской. Погонщики строили дома своими руками и, живя в лагере, заботливо ухаживали за территорией, ежедневно устраняя дыры в бамбуковых стенках, латая соломенные крыши и сооружая святилища для своих натов[34]. Они разбивали вокруг своих хижин небольшие, аккуратно огороженные грядки, чтобы пополнять овощами сухой паек, доставляемый с равнин. Некоторые выращивали кур или свиней в загончиках между свай; другие делали запруды на ближних ручьях и устраивали рыбные садки.
В результате такой хозяйственности тиковые лагеря частенько напоминали маленькие горные деревушки с семейными жилищами, кучкующимися полукругом позади дома старосты. Но вид этот был обманчив, поскольку поселения были сугубо временными. У команды у-си уходила всего пара дней на сооружение лагеря, для которого требовалась только виноградная лоза, свежесрезанный бамбук и плетеный тростник. В конце сезона лагерь бросали в джунглях только для того, чтобы разбить через год новый в другом месте.
В каждом лагере самую большую хижину занимал староста, и там-то обычно и останавливались Сая Джон и Раджкумар. Порой они допоздна засиживались за разговорами на террасе. Сая Джон курил чируту[35] и предавался воспоминаниям – о своей жизни в Малайе и Сингапуре и о своей умершей жене.
В ту ночь, когда на Сая Джона наорал комиссар, Раджкумар долго лежал без сна, глядя на мерцающие огоньки в таи. Несмотря на предостережения Сая Джона, он никак не мог унять возмущение поведением комиссара.
Уже засыпая, Раджкумар услышал, как кто-то пробирается на террасу. Это был Сая Джон, с коробкой спичек и сигарой. Раджкумар мгновенно проснулся и разъярился точь-в-точь как днем.
– Саяджи, – выпалил Раджкумар, – почему вы ничего не сказали, когда этот человек кричал на вас? Я так разозлился, что хотел забраться в таи и преподать ему урок.
Сая Джон бросил взгляд в сторону таи, где по-прежнему горел свет. На фоне тонких плетеных стенок отчетливо виден был силуэт комиссара – он сидел в кресле и читал книгу.
– Тебе вовсе не следует злиться, Раджкумар. На его месте ты был бы таким же, а может, даже хуже. Меня гораздо больше удивляет, что большинство из них не такие, как этот.
– Почему, Саяджи?
– Представь, как им живется здесь, этим молодым европейцам. В лучшем случае они проведут в джунглях года два или три, прежде чем малярия или лихорадка денге обессилит их настолько, что им придется до конца дней жить поближе к докторам и больницам. Компании это хорошо известно, они понимают, что всего через несколько лет эти люди преждевременно одряхлеют, станут стариками в двадцать один год и их придется перевести в контору в городе. Только сразу по прибытии сюда, когда им по семнадцать-восемнадцать, они могут вести такую жизнь, и за эти несколько лет компания должна извлечь из них всю возможную выгоду. Вот они и посылают бедолаг из одного лагеря в другой, держат их там месяцами практически без перерывов. Взять хоть вот этого – мне рассказали, что у него уже был тяжелый приступ лихорадки денге. А этот парень немногим старше тебя, Раджкумар, может, лет восемнадцать-девятнадцать, – и вот он здесь, больной и одинокий, за тысячи миль от родного дома, в окружении людей, которых он вообще не знает, в чаще тропического леса. Но посмотри: сидит, читает книжку, без тени страха на лице.
– Вы тоже далеко от родного дома, Саяджи, – возразил Раджкумар. – Как и я.
– Но не так далеко, как он. И по доброй воле никто из нас не оказался бы здесь, собирая дары этого леса. Посмотри на у-си в лагере, посмотри на хсин-оука, который валяется на циновке, одурманенный опиумом, посмотри на ложную гордость, которой они исполнены, козыряя своим умением обучать слонов. Они думают, что если их отцы и прочие предки умели обращаться со слонами, то никто другой не знает этих животных так, как они. Хотя пока сюда не пришли европейцы, никому из них в голову не приходило использовать слонов на заготовке леса. Эти огромные животные нужны были только в пагодах и дворцах, для войны и торжественных церемоний. Именно европейцы поняли, что покорные ручные слоны могут выполнять разные работы на пользу человеку. Это они изобрели все, что мы видим вокруг в лесных лагерях. Вся здешняя жизнь – их творение. Это они придумали способ кольцом подсекать деревья, придумали, как перевозить бревна на слонах, как сплавлять их вниз по рекам. Даже такие мелочи, как конструкция и расположение здешних хижин, план таи, использование бамбука и ротанга – вовсе не у-си с их древней мудростью придумали эти вещи. Все родилось в умах таких людей, как тот, что сидит сейчас в таи, – мальчишка немногим старше тебя.
Купец ткнул пальцем в сторону силуэта на стене таи.
– Видишь этого человека, Раджкумар? – сказал он. – Вот у него тебе стоит поучиться. Подчинять природу своей воле, произрастающее на земле делать полезным человеческим существам – что может быть более достойным восхищения, более захватывающим? Вот что я сказал бы любому мальчику, у которого впереди вся жизнь.
Раджкумар понимал, что Сая Джон думал не о нем, своем луга-лей, а о Мэтью, своем отсутствующем сыне, и осознание это вызвало внезапный и острый приступ горечи. Но боль длилась лишь мгновение, и когда она утихла, Раджкумар почувствовал себя намного более сильным, более зрелым. В конце концов, это ведь он сейчас здесь, в лесном лагере, – а Мэтью далеко, в Сингапуре.
7
В Ратнагири многие верили, что король Тибо всегда первым узнает, когда море потребует жертвы. Каждый день он долгие часы проводил на балконе, глядя вдаль в свой бинокль в золотой оправе. Рыбаки научились отыскивать характерные двойные блики света в его линзах. Вечером, возвращаясь в гавань, они поглядывали в сторону балкона на вершине холма, словно ища утешения. В Ратнагири ничего не случилось, говорили люди, но король узнал об этом первым.
Хотя самого короля никто не видел с того первого дня, когда он вместе с семьей проехал из гавани к дому, королевские экипажи с их упряжками пятнистых лошадей и усатым кучером стали привычным зрелищем в городе. Но сам король никогда из дворца не выезжал, а если и выезжал, то об этом невозможно было догадаться. У королевского семейства имелось два гаари[36]: одно – открытая коляска, а другое – карета с занавешенными окошками. Ходили слухи, что иногда в карете скрывается и король, но из-за плотных бархатных шторок нельзя было сказать наверняка.
С другой стороны, три или четыре раза в год в городе видели принцесс, которые ехали к причалу Мандви, или в храм Бхагавати, или к тем британским чиновникам, в дома которых было позволено наносить визиты. Горожане узнавали их по лицам – Первая, Вторая, Третья и Четвертая принцессы (последняя родилась в Ратнагири, на второй год королевского изгнания).
В первые годы жизни в Индии принцессы обычно одевались по-бирмански. Но с течением времени наряды изменились. Однажды, никто не помнил в точности когда, они появились в сари – не в дорогих или роскошных сари, а в простых местных хлопковых, зеленых и красных. Они начали заплетать и умащать маслом волосы, как школьницы в Ратнагири. Научились свободно говорить на маратхи[37] и хиндустани, как любой горожанин, – по-бирмански они теперь говорили только с родителями. Они были симпатичными девочками, и было в них нечто искреннее и непринужденное. Когда принцессы проезжали по улицам города, они не отводили взгляд, не отворачивались. В глазах их светились любопытство и тоска, как будто они жаждали узнать, каково это – пройтись по базару Джинджинака, заглянуть в лавку и поторговаться за сари. Они сидели напряженно выпрямившись, впитывая окружающее, и время от времени задавали вопросы кучеру: “Чей это магазин сари?”; “Что это за сорт манго на том дереве?”; “Какая это рыба висит вон там над прилавком?”
Мохан Савант, кучер, был местным парнем, из обнищавшей деревушки у реки. В городе у него имелись десятки родственников, работавших рикшами, кули или извозчиками на тонга[38], и все его знали.
Когда Мохан Савант появлялся на базаре, народ зазывал его: “Передай Второй принцессе эти манго. Настоящие «альфонсо» из нашего сада”; “Угости-ка маленькую девочку вот этой сушеной гарцинией. Я видел, как она у тебя просила”.
Взгляды принцесс задевали за живое каждого, на кого они падали. Совсем же дети, что такого они сделали, чтобы так жить? Почему им не разрешают ходить в гости к местным, почему нельзя дружить с детьми маратхи[39] из образованных семейств? Почему они взрослеют и превращаются в женщин, не зная иного общества, кроме компании слуг?
Раз или два в год вместе с дочерьми выезжала королева; лицо ее напоминало белую маску, мрачную и неподвижную, губы из-за курения чирут были окрашены в глубокий мертвенно-лиловый цвет. Люди толпились на улицах, чтобы поглазеть на королеву, но она, казалось, никогда не замечала никого и ничего, сидя идеально прямо, как палка, с суровым и неподвижным лицом.
А еще была мисс Долли, с длинными черными волосами и точеными чертами – прекрасная, как принцесса из сказки. С годами все, кто сопровождал королевскую семью в Ратнагири, постепенно исчезали кто куда, свита редела – прислуга, родственники и управляющие хозяйством. Осталась только мисс Долли.
Король знал, что говорят о нем люди в Ратнагири, и хотя его несколько тревожило приписываемое ему могущество, одновременно он был приятно удивлен и немало польщен. И как мог старался исполнять роль, которой от него ожидали. Женщины, бывало, стояли на крышах домов, с новорожденными младенцами на руках, в надежде привлечь воображаемое благословение его взгляда. И он порой по несколько минут не отводил бинокля от этих доверчивых матерей. Просьба казалась наивной и незначительной, так почему бы ему не даровать то, что было в его власти?
Вообще-то не все, что говорили о нем, было неправдой. Насчет рыбаков, к примеру: каждый день, с рассветом выходя на балкон, он видел квадратные паруса рыбацких лодок, наклеенные на воды залива, как цепочка почтовых марок. Это были хорис, выдолбленные из ствола катамараны с одним балансиром, из рыбацкой деревушки Карла в устье реки. По вечерам, когда солнечный диск вырастал все больше и больше, опускаясь к горизонту, он видел, как те же самые лодки лавируют против ветра, проскальзывая в бухту. Король никогда не пересчитывал лодки, отплывавшие поутру, но каким-то образом всегда знал, сколько их. Однажды, когда суденышки были далеко в море, он увидел, как на них надвигается шквал. Тем вечером, когда флотилия пробиралась назад, он был уверен, что число не сходится, одного не хватает.
Король послал за Савантом: он знал, что рыбацкая деревня располагается неподалеку от селения, где жила семья мальчика. В то время Савант еще не был кучером, ему было всего четырнадцать, и он пока служил простым конюхом.
– Савант, – сказал король, – в море был шторм. – И объяснил, что произошло.
Савант помчался в город, и новость добралась до рыбацкой деревни еще прежде, чем лодки вернулись в гавань. Вот так и родилась легенда о всевидящем оке короля.
С наблюдательного пункта на балконе перед королем открывался самый лучший морской вид в округе, потому неудивительно, что многое он должен был видеть раньше, чем остальные. В бухте, недалеко от пристани, стоял маленький эллинг – крытый соломой навес с примыкающим к нему сарайчиком. К сараю прилагалась легенда. Рассказывали, что однажды британский генерал, лорд Лейк, оказался в Ратнагири с подразделением отборных войск, известных как Королевский Батальон. Дело происходило после долгой военной кампании, в ходе которой наголову были разгромлены несколько местных правителей. Его Лордство был в приподнятом настроении и вечером, после разгульного веселья, устроил офицерские лодочные состязания. Лодки конфисковали у местных рыбаков, и офицеры Королевского Батальона вышли в залив на покачивающихся каноэ и челноках, неистово работая веслами под подбадривающие крики своих солдат. Легенда гласит, что Его Лордство опередил всех на целый корпус.
Впоследствии у местных чиновников в Ратнагири это стало чем-то вроде традиции – гребля в водах залива. Прочие военные базы в Индии могли позволить себе такие развлечения, как охота на кабанов или поло, а вот в Ратнагири единственную возможность предоставлял залив. С годами эллинг обзавелся собственным пантеоном героев-гребцов и героев парусного спорта. Самым знаменитым из них считался некий мистер Гибб, моряк из Кембриджа и широко известный районный администратор. Мистер Гибб был настолько искусным гребцом, что сумел провести свое длинное узкое гоночное судно через тесный и бурный канал, ведущий в открытое море. Именно король стал первым свидетелем этого удивительного подвига, именно от него в Ратнагири узнали об этом.
По этой причине жители Ратнагири и ждали надежной информации о приближающихся муссонах от короля. Каждый год наступало утро, когда, проснувшись, он замечал легкое, но безошибочное изменение цвета в линии горизонта, рассекавшей вид из окна. Эта полоска, тонкая, как черточка сурьмы на веке, стремительно росла, превращаясь в надвигающуюся стену дождя. Расположенный высоко на холме Аутрем-хаус первым встречал удар муссона, дождь хлестал по балкону, просачивался под дверь и сквозь щели в закрытых ставнях, собираясь в лужу глубиной в несколько дюймов под королевской кроватью.
– Савант! Дождь приближается. Быстрее. Закрывай ставни, доставай ведра и убери все с пола.
Уже через несколько минут новость слетала к подножию холма: “Король увидел дождь”. Внизу начиналась суматоха, старушки спешили убрать сушеные заготовки, а детвора с радостными криками выскакивала на улицы.
И именно король первым замечал пароходы, направлявшиеся в бухту. В Ратнагири приходы и отходы этих судов отмечали движение времени, примерно как в других городах это делали выстрелы пушки и бой часов на башне. С самого утра в ожидании парохода толпа народа собиралась на пристани Мандви. На рассвете в залив заходили рыбацкие лодки с грузом сушеной рыбы. Торговцы подъезжали на воловьих повозках, груженных перцем и рисом.
Но никто не ждал прибытия парохода с бо´льшим нетерпением, чем король Тибо. Несмотря на предостережения врача, он не смог обуздать свою страсть к свинине. Поскольку в Ратнагири ничего такого было не достать, каждую неделю ему привозили партию бекона и ветчины из Бомбея, а из Гоа прибывали острые португальские колбаски чоризо, приправленные перцем чили.
Король изо всех сил старался побороть свою неподобающую страсть. Он часто вспоминал о своем давнем предшественнике, короле Бирмы Наратхихапати, известном обжоре и любителе свинины. За трусливую сдачу столицы армиям хана Хубилая король Наратхихапати заслужил вечный позорный титул “Король, который сбежал от китайцев”. Собственные жена и сын вручили ему яд, чтобы Наратхихапати покончил с жизнью. Любовь к свинине не считалась добрым предзнаменованием для короля.
Король обычно замечал пароход, когда тот был еще далеко в море, примерно в часе пути до причала.
– Савант! Судно!
И спустя несколько минут кучер уже мчался в карете к городу.
Появление королевского экипажа стало предвестником прихода парохода. Людям больше не нужно было весь день ждать на пристани – спускающаяся с холма карета подавала ясный знак, что судно на подходе. И вот так бремя подсчета дней постепенно перешло к черной карете с павлиньим гребнем, как будто само время оказалось в руках Тибо. Невидимый на своем балконе, Тибо стал духом-хранителем города, вновь стал королем.
В тот год, когда Долли исполнилось пятнадцать, на побережье разразилась чума. Особенно сильно пострадал Ратнагири. День и ночь пылали погребальные костры. Улицы опустели. Многие люди покинули город, оставшиеся заперлись в своих домах.
Аутрем-хаус располагался достаточно далеко от населенных центров, чтобы оставаться на безопасном расстоянии от заразы. Но по мере того, как страх расползался по окрестностям, стало очевидно, что и в такой изоляции таится угроза – Аутрем-хаус оказался отрезанным от мира. В бунгало не было канализации и водоснабжения. Каждый день необходимо было очищать отхожие места, это делали уборщики, воду нужно было носить в ведрах из ближайшего ручья. Но с началом эпидемии уборщики больше не появлялись, и ведра для воды валялись пустые у входа в кухню.
Обычно посредником между прислугой и королевским семейством выступала Долли. И так вышло, что с течением лет все больше и больше домашних обязанностей перекладывалось на нее. Нелегко было иметь дело со множеством людей, работавших в поместье, – носильщики, конюхи, садовники, няньки, повара. Даже в лучшие времена Долли с трудом находила слуг и уговаривала их остаться. Проблема состояла в том, что не хватало денег на выплату им жалованья. Король и королева продали почти все, что привезли с собой из Мандалая, постепенно все богатства разошлись, кроме нескольких памятных пустяков и сувениров.
Сейчас, когда город замер в ужасе перед болезнью, Долли ощутила, каково это – вести дом без всякой помощи. К концу первого дня уборные источали невыносимое зловоние, цистерны с водой опустели и не осталось ни капли, чтобы умыться, постирать или принять ванну.
Единственные, кто остался, это полдюжины слуг, живших в самом поместье, и Савант среди них. Савант быстро поднялся с должности конюха до кучера, а невозмутимость и жизнерадостность придавали ему солидности, несмотря на юный возраст. В кризисные моменты все обращались именно к нему.
За первые пару дней с помощью Саванта Долли сумела организовать дело так, чтобы емкости для воды в спальне королевы были всегда наполнены. Но королю воды не хватало, и уборными почти невозможно было пользоваться. Долли воззвала к Саванту: