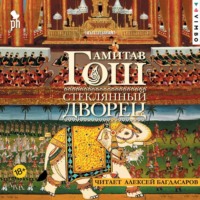Полная версия
Стеклянный Дворец
Король вспыхнул, молча глядя на администратора. Ответить за него пришлось королеве. Она подалась вперед, впившись длинными острыми ногтями в подлокотники кресла.
– Довольно, мистер администратор, – прошипела она. – Хватит, бас каро[44].
На мгновение воцарилась тишина, в которой единственным звуком был скрип ногтей королевы, царапавших полированные подлокотники кресла. Воздух в комнате, казалось, заколебался, как будто над полом внезапно поднялось горячее марево.
Уму усадили между Долли и Второй принцессой. Застыв, она в ужасе и смятении слушала разговор мужа с королем. На стене перед ней висела маленькая акварель, пейзаж: залитая багряным рассветным сиянием равнина, сквозь дымку тающего ночного тумана проступают шпили пагод. Ума хлопнула в ладоши и громко воскликнула:
– Паган!
В тесной комнате слово это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все вскочили, обернувшись к Уме. Она подняла руку, указывая на картину:
– Это ведь Паган, верно?
Вторая принцесса, сидевшая рядом с Умой, с готовностью поддержала отвлекающий маневр:
– Да, совершенно верно. Долли может вам рассказать – это она нарисовала.
Ума повернулась к стройной даме, сидевшей по левую руку. Долли Сейн, припомнила она, их представили друг другу. Ума еще обратила внимание на ее необычный вид, но была слишком сосредоточена на соблюдении церемоний и не успела приглядеться к Долли.
– Это в самом деле нарисовали вы? Поразительно, прекрасная работа.
– Благодарю вас, – тихо ответила Долли. – Я перерисовала из книги.
Глаза их встретились, и они обменялись короткими улыбками. Внезапно Ума поняла, что ее так поразило: эта мисс Сейн – возможно, самая красивая женщина из всех, что она видела.
– Мадам администратор, – королева постучала костяшками пальцев по подлокотнику кресла, – откуда вы знаете, что это Паган? Вы бывали в Бирме?
– Нет, – с сожалением призналась Ума. – Хотела бы, но нет. Мой дядя живет в Рангуне, и он однажды прислал мне картину.
– Вот как? – И королева кивнула.
На нее произвело впечатление то, как молодая женщина вмешалась, чтобы спасти положение. Самообладание было качеством, которым она всегда восхищалась. Было что-то привлекательное в этой женщине, Уме Дей, – ее живость и естественность составляли приятный контраст с высокомерием ее мужа. Если бы королева не держала себя в руках, она бы точно указала на дверь администратору, и это непременно плохо закончилось бы. Нет, эта миссис Дей очень правильно поступила, вмешавшись.
– Мы желали бы поинтересоваться, мадам администратор, – заговорила королева, – как ваше настоящее имя? Мы так и не смогли привыкнуть к вашей манере называть женщин по имени мужа или отца. В Бирме мы так не поступаем. Возможно, вы не против сообщить нам ваше имя по рождению?
– Ума Деби, но все зовут меня просто Ума.
– Ума? – удивилась королева. – Это имя нам знакомо. Должна сказать, вы хорошо говорите на хиндустани, Ума.
В голосе прозвучала нотка очевидного одобрения. И она, и король свободно говорили на хиндустани, именно этот язык она предпочитала в общении с чиновниками. Королева обнаружила, что беседа на хиндустани обычно ставит правительственных служащих в невыгодное положение – особенно индийцев. Чиновники из Гражданской службы зачастую неплохо говорили на хиндустани, а те, кто не говорил, без колебаний отвечали на английском. Индийцы же, среди которых часто встречались парсы или бенгальцы, какие-нибудь мистер Чаттерджи или мистер Дорабджи, очень редко свободно владели хиндустани. И, в отличие от своих британских коллег, не решались переходить на другой язык, хотя их, казалось, смущало то, что королева Бирмы говорит на хиндустани лучше, чем они. Они запинались, заикались, и уже через несколько минут язык у них окончательно прилипал к гортани.
– Я выучила хиндустани в детстве, Ваше Величество, – сказала Ума. – Мы некоторое время жили в Дели.
– Ачча?[45] Что ж, теперь мы хотели бы спросить вас еще кое о чем, Ума. – Королева взмахнула рукой, подзывая: – Вы можете подойти к нам.
Ума приблизилась к королеве и склонила голову.
– Ума, – прошептала королева, – мы хотим рассмотреть вашу одежду.
– Ваше Величество!
– Как видите, мои дочери носят сари на местный манер. Но я предпочитаю новую моду. Она гораздо элегантнее – так сари больше похоже на хтамейн. Будет не слишком навязчиво попросить вас открыть нам секреты этого нового стиля?
Ума весело прыснула:
– Я буду очень рада, когда вам будет угодно.
Королева резко повернулась к администратору:
– Вам, администратор-сахиб, несомненно, не терпится отправиться в офис и приступить к исполнению множества возложенных на вас задач. Но могу ли я просить вас позволить вашей жене задержаться у нас еще ненадолго?
Администратор удалился, и, вопреки изначальным катастрофическим предзнаменованиям, визит завершился очень дружелюбно, остаток дня Ума провела в Аутрем-хаус, болтая с Долли и принцессами.
Дом администратора называли резиденцией. Это было большое бунгало с портиком и высокой черепичной крышей. Оно стояло на гребне холма, окнами на юг – на залив и долину реки Каджали. Вокруг раскинулся окруженный стеной сад, который тянулся вниз по склону, обрываясь прямо над речной долиной.
Однажды утром Ума обнаружила узкую калитку, скрытую зарослями бамбука в дальнем конце сада. Калитка заросла травой, но Ума смогла сдвинуть ее ровно настолько, чтобы протиснуться в щель. В каких-то двадцати футах от калитки начинался лесистый утес, нависающий над долиной Каджали. На самом краю стоял пипул – священный фикус – величественное старое дерево с густой бородой воздушных корней, свисающих с корявых серых ветвей. Судя по всему, тут паслись козы – земля под деревом была вытоптана, подлесок начисто обглодан. Цепочки черного помета вели вниз по склону. Пастухи устроили себе здесь наблюдательный пункт, насыпав земли и камней под стволом дерева.
Открывшийся вид поразил Уму: извилистая река, устье, излучина залива, продуваемые ветрами скалы – отсюда видно было больше, чем из резиденции на вершине холма. Она вернулась сюда на следующий день, и еще через день. Пастухи приходили только на рассвете, остальное время место было совсем пустынным. Она завела привычку каждое утро выскальзывать из дома, оставляя дверь спальни закрытой, чтобы слуги думали, будто она еще спит. И час-другой сидела с книгой в густой тени пипула.
Однажды утром из бороды воздушных корней пипула внезапно появилась Долли. Она пришла в резиденцию вернуть кое-какую одежду, которую Ума отправила в Аутрем-хаус, – нижние юбки и блузки, чтобы принцессы могли заказать такие же у портного. Долли ждала в гостиной, пока слуги повсюду разыскивали Уму. Они обыскали весь дом и сдались, мемсахиб нет дома, сказали они, – должно быть, улизнула погулять.
– Но как ты узнала, что я здесь?
– Наш кучер дружит с вашим.
– Так это Канходжи сказал тебе?
Канходжи был старшим кучером, который возил Уму по городу.
– Да.
– Интересно, а он откуда прознал о моем секретном дереве?
– Сказал, что услышал от пастухов, которые приводят сюда коз по утрам. От пастухов из деревни.
– Правда? – Ума смутилась. Неловко было узнать, что пастухи осведомлены о ее тайном месте, хотя она ни разу не встречала их здесь. – Ладно, но вид отсюда великолепный, правда же?
Долли окинула долину безразличным взглядом.
– Я так привыкла к нему, что совсем не задумываюсь.
– Мне кажется, тут потрясающе. Я прихожу сюда почти каждый день.
– Каждый день?
– Ненадолго.
– Могу понять почему. – Долли помедлила, глядя на Уму. – Вам, должно быть, одиноко здесь, в Ратнагири.
– Одиноко?
Ума была захвачена врасплох и смущена. Ей ни разу не приходило в голову использовать это слово по отношению к себе. Не то чтобы она никогда ни с кем не виделась или ей нечем было заняться – об этом заботился администратор. Каждый понедельник из его офиса присылали служебную записку со списком дел на неделю – муниципальное мероприятие, спортивный праздник в школе, вручение наград в профессиональном колледже. Обычно у нее была только одна официальная встреча в день, не так много, но и не настолько мало, чтобы дни казались утомительно длинными. В начале недели она внимательно просматривала список, а потом оставляла на туалетном столике, придавив чем-нибудь тяжелым, чтобы случайно не улетел. Ума опасалась ненароком пропустить какое-нибудь мероприятие, но шансов на это было мало. Офис администратора исправно присылал напоминания – примерно за час до каждой встречи в резиденцию прибывал слуга напомнить Канходжи, чтобы тот подготовил гаари. Она всегда слышала, что лошади уже у крыльца, они фыркали, топтались по гравию, а Канходжи цокал языком, ц-ц-ц….
Лучшей частью всех этих мероприятий была поездка в город и обратно. В стенке кареты за сиденьем кучера имелось окошко. Каждые несколько минут Канходжи просовывал в него свое маленькое сморщенное лицо и докладывал о местах, мимо которых они проезжают, – судебная палата, тюрьма, колледж, базар. По временам ей ужасно хотелось выскочить из кареты, заглянуть на базар, поторговаться с торговками рыбой. Но Ума понимала, что это будет скандал, администратор вернется домой и скажет: “Тебе следовало предупредить меня, и я отдал бы бандобаст”[46]. Но бандобаст испортило бы все удовольствие: собралась бы половина города, каждый из кожи вон лез бы, чтобы угодить администратору. Лавочники отдали бы все, на что упал ее взгляд, а по возвращении домой носильщики и хансама[47] дулись бы на нее, как будто она их попрекала.
– А ты, Долли? – спросила Ума. – Тебе одиноко здесь?
– Мне? Я прожила тут почти двадцать лет, теперь это мой дом.
– Да ты что? – поразилась Ума. Было просто невероятно, что женщина такой красоты и достоинства большую часть своей жизни провела в этом маленьком захолустном городишке. – Ты хоть немного помнишь Бирму?
– Я помню дворец в Мандалае. Особенно стены.
– Почему стены?
– Многие стены были облицованы зеркалами. Там был огромный зал, его называли Стеклянный Дворец. Все из хрусталя и золота. Если лечь на пол, можно было увидеть свое отражение повсюду.
– А Рангун? Ты помнишь Рангун?
– Наш пароход стоял там на якоре пару ночей, но нам не позволили выйти в город.
– У меня дядя в Рангуне. Работает в банке. Если бы я навещала его, я бы тебе рассказала про город.
Долли внимательно посмотрела на Уму:
– Думаете, я хочу узнать про Бирму?
– А разве нет?
– Нет. Нисколько.
– Но ты так давно там не была.
Долли рассмеялась:
– Кажется, вы меня жалеете, да?
– Нет, – снова смутилась Ума. – Нет.
– Нет повода жалеть меня. Я привыкла жить за высокими стенами. Мандалай не слишком отличался. И я на самом деле не жду большего.
– Ты никогда не думала вернуться?
– Никогда! – страстно выдохнула Долли. – Если я сейчас поеду в Бирму, я буду там иностранкой, меня станут звать калаа, как всех индийцев, – захватчик, чужак из-за моря. Думаю, для меня это будет очень тяжело. Я никогда не смогу избавиться от мысли, что однажды мне снова придется уехать. Вы поняли бы, если бы знали, каково нам пришлось, когда мы уезжали.
– Это было так ужасно?
– Я мало что помню, и это, наверное, своего рода милость Господня. Иногда вижу как будто урывками. Это как каракули на стене – сколько их ни закрашивай, всегда кусочек проступает, но недостаточно, чтобы сложить целое.
– Что ты видишь?
– Пыль, факелы, солдаты, толпа людей, чьи лица неразличимы в темноте… – Долли вздрогнула. – Я стараюсь об этом много не думать.
После этой встречи, за удивительно короткое время, Долли и Ума стали близкими подругами. По меньшей мере раз в неделю, иногда дважды или даже чаще, Долли приезжала в резиденцию и они проводили вместе целый день. Обычно они сидели в доме, разговаривали и читали, но время от времени Долли приходила в голову мысль совершить небольшую экспедицию. Канходжи вез их к морю или в деревню. Когда администратор уезжал по делам, Долли оставалась и на ночь. В резиденции имелось несколько гостевых комнат, и одну из них отвели персонально ей. Они засиживались за разговорами заполночь. Часто даже просыпались на кроватях друг друга, незаметно задремав посреди разговора.
Однажды ночью, набравшись смелости, Ума решилась:
– Про королеву Супаялат говорят ужасные вещи.
– Какие?
– Что по ее приказу убили много людей… в Мандалае.
Долли промолчала, но Ума не отставала:
– Неужели тебе не страшно жить в одном доме с таким человеком?
Долли не ответила, и Ума начала переживать, что обидела подругу. Но тут Долли заговорила:
– Знаешь, Ума… всякий раз, приходя в ваш дом, я вижу картину, что висит прямо напротив парадных дверей…
– Ты имеешь в виду портрет королевы Виктории?
– Да.
– И что? – недоуменно спросила Ума.
– Тебе никогда не приходило в голову, сколько людей было убито во славу королевы Виктории? Должно быть, миллионы, разве не так? Думаю, мне было бы страшно жить рядом с такими портретами.
Несколько дней спустя Ума сняла портрет королевы Виктории со стены и отправила его в судебную палату, в кабинет администратора.
Уме исполнилось двадцать шесть, и уже пять лет она была замужем. Долли на несколько лет старше. Ума беспокоилась: как сложится будущее Долли? Неужели она никогда не выйдет замуж и не родит детей? А как же принцессы? Первой принцессе двадцать три, самой младшей – восемнадцать. Неужели у этих девушек впереди нет ничего, кроме пожизненного заточения?
– Почему никто ничего не делает, – обратилась Ума к мужу, – чтобы устроить брак этих девушек?
– Дело не в том, что никто не пытается, – ответил администратор. – Это королева не позволяет.
В своем кабинете в суде администратор отыскал толстую папку с перепиской, свидетельствующей о попытках его предшественников решить вопрос о будущем принцесс. Девушки были в расцвете своей женственности. Случись в Аутрем-хаус скандал или деликатное происшествие, ответственность легла бы на действующего администратора, бомбейский секретариат не оставлял сомнений на этот счет. Дабы защитить себя, несколько предыдущих администраторов попытались найти принцессам подходящих женихов. Один из них даже написал своим коллегам в Рангун, навести справки о достойных бирманских холостяках, – только чтобы узнать, что во всей стране наберется лишь шестнадцать подобных особ.
По незыблемому обычаю представители правящей династии Бирмы заключали браки исключительно с кровными родственниками. Только мужчины, по обеим линиям происходящие из Конбаунов, могли жениться на ком-то из королевской семьи. Именно королева была виновна в том, что почти не осталось чистокровных принцев, это она уничтожила династию, казнив потенциальных соперников Тибо. Что касается немногих достойных мужчин, ни один не получил одобрения королевы. Она заявила, что никто из них не годится в пару истинной принцессе Конбаун. Она не позволит своим дочерям осквернить кровь, выйдя замуж за мужчину низкого происхождения.
– А как же Долли? – возразила Ума. – Долли ведь не нужен никакой принц.
– Верно, – согласился администратор. – Но ее обстоятельства еще более странные. Всю свою жизнь она провела в обществе четырех принцесс. Но при этом она зависимый человек, прислуга, неизвестного рода и происхождения. Как приступить к поискам мужа для нее? Откуда начать – здесь или в Бирме?
На это Уме нечего было ответить. Ни она, ни Долли больше не поднимали тему замужества и детей. С другими подругами Ума разговаривала только о мужьях, браке, детях – и, конечно, о средствах от собственной бездетности. Но с Долли все было иначе, их дружба не была основана на интимных откровениях и советах по домоводству – ровно наоборот. Обе инстинктивно знали, о чем не следует упоминать – о попытках Умы зачать ребенка, о стародевичестве Долли, – и именно это придавало их встречам такую живость. Когда она была с Долли, Ума чувствовала, как напряжение, обручем стягивающее ее разум, ослабевает, что она может оглядеться вокруг, а не переживать бесконечно о собственной несостоятельности в роли жены. Например, проезжая по сельской местности, она удивлялась тому, как люди выбегают из домов поболтать с Долли, передать ей какую-нибудь мелочь – фрукты, немного овощей, отрез ткани. Долли несколько минут беседовала с ними на конкани, а когда отправлялись дальше в путь, улыбалась и рассказывала: “Дядя этой женщины (или брат, или тетка) когда-то работал в Аутрем-хаус”. Она пожимала плечами, словно говоря, что все это не имеет значения, но Ума видела – в этих встречах есть нечто большее, выходящее далеко за рамки обыденности. Часто Уме хотелось узнать, кто эти люди, о чем они разговаривают с Долли. Но здесь чужой была она, мемсахиб, и это на нее распространялось молчание изгнания.
Порой, когда вокруг собиралась уж очень большая толпа, Канходжи принимался браниться со своего насеста, приказывая деревенщине освободить путь гаари администратора и угрожая вызвать полицию. Женщины и дети косились на Уму, а узнав супругу администратора, испуганно пучили глаза и разбегались.
– Видишь, – однажды со смехом заметила Долли, – люди твоей страны чувствуют себя спокойнее в компании заключенных, чем тюремщиков.
– Я не твой тюремщик.
– А кто же ты тогда? – Долли улыбалась, но в голосе звучал вызов.
– Подруга. Разве нет?
– И это тоже, но случайно.
Ума даже обрадовалась нотке презрения в голосе Долли. Это бодрило после зависти и подобострастия, с которыми она сталкивалась повсюду, будучи женой администратора и верховной мемсахиб этих краев.
Как-то раз, когда они ехали в карете, Долли с Канходжи перебросились парой резких слов через окошко. Довольно быстро завязалась перебранка, и Долли будто забыла о присутствии Умы. Время от времени она делала попытки взять себя в руки и, как обычно, продолжить показывать достопримечательности и вспоминать анекдоты о разных деревушках. Но всякий раз гнев брал вверх, и она снова набрасывалась на кучера.
Ума была заинтригована, ведь говорили эти двое на конкани и она ничего не понимала. О чем они могли спорить так яростно – просто настоящий семейный скандал?
– Долли, Долли, – потрясла она подругу за колено, – что, черт возьми, происходит?
– Ничего. – Долли плотно сжала губы. – Ничего особенного. Все в порядке.
Они направлялись в храм Бхагавати, что стоял на голой скале над бухтой, окруженный стенами средневековой крепости Ратнагири. Едва гаари остановилась, Ума подхватила Долли под руку и повела к полуразрушенным бастионам. Они взобрались на зубчатую стену и огляделись. Под ними стена уходила отвесно вниз, обрываясь в море сотней футов ниже.
– Долли, я хочу знать, в чем дело.
Долли растерянно покачала головой:
– Я хотела бы рассказать, но не могу.
– Долли, ты не можешь взять и наорать на моего кучера, а потом отказываться говорить, о чем шла речь.
Долли заколебалась, и Ума продолжила настаивать:
– Ты должна сказать мне, Долли.
Закусив губу, Долли пристально посмотрела прямо в глаза подруге.
– Если я скажу, обещаешь не рассказывать администратору?
– Да, конечно.
– Даешь слово?
– Официально. Даю слово.
– Дело касается Первой принцессы.
– Продолжай.
– Она беременна.
Ума ахнула, в изумлении прижав ладонь к губам.
– А кто отец?
– Мохан Савант.
– Ваш кучер?
– Да. Вот поэтому ваш Канходжи так злится. Он дядя Моханбхая. Их семья хочет, чтобы королева дала согласие на брак, чтобы ребенок не родился бастардом.
– Но, Долли, как может королева позволить своей дочери выйти замуж за кучера?
– Мы не считаем его простым кучером, – резко возразила Долли. – Для нас он Моханбхай.
– Но его семья, его происхождение?
Долли с отвращением взмахнула рукой.
– Ох, индийцы, – фыркнула она. – Все вы одинаковы, все помешаны на ваших кастах и организации правильных браков. В Бирме женщина, если она любит мужчину, свободна делать что пожелает.
– Но, Долли, – возразила Ума, – я слышала, что королева крайне щепетильна в подобных вопросах. Она считает, что в Бирме нет мужчин, достойных ее дочерей.
– Это ты про список будущих мужей? – Долли засмеялась. – Но, понимаешь, это просто имена. Принцессы ни с кем из них и знакомы не были. Выйти замуж за кого-то из них дело сложное, государственное. А вот то, что произошло между Моханбхаем и принцессой, вовсе не сложно. Это как раз очень просто: они обычные мужчина и женщина, которые провели вместе годы, живя внутри одних и тех же стен.
– Но королева? Неужели она не гневается? А король?
– Нет. Видишь ли, все мы очень привязаны к Моханбхаю, а Мин и Мибия больше других. Думаю, мы все немного любим его, каждый по-своему. Он вместе с нами прошел через все, он всегда оставался рядом. Мы, в некотором смысле, живы благодаря ему, он помог нам сохраниться в добром здравии. Единственный человек, который огорчен случившимся, это сам Моханбхай. Он думает, что твой муж посадит его в тюрьму, когда обо всем узнает.
– А принцесса? Как она себя чувствует?
– Как будто родилась заново, как будто ее вызволили из дома смерти.
– А ты, Долли? Мы никогда не говорили о тебе и твоем будущем. Есть ли у тебя планы выйти замуж, иметь собственных детей? Ты никогда об этом не задумывалась?
Долли прислонилась к стене, глядя на бушующее внизу море.
– Сказать по правде, Ума, раньше я все время думала о детях. Но как только мы узнали о ребенке принцессы – ребенке Моханбхая, – случилась странная вещь. Все подобные мысли разом улетучились из моей головы. Сейчас, просыпаясь, я чувствую, что это мой ребенок, что он растет внутри меня. Сегодня утром я слышала, как девочки расспрашивали Первую принцессу: “Малыш растет?”, “Ты чувствовала ночью, как он ворочается?”, “Это малышка? Где сейчас ее пяточки?”, “Можно потрогать ее головку?” А мне не нужно было ни о чем спрашивать, я чувствовала, что могу ответить на любой такой вопрос, как будто это мой собственный ребенок.
– Но, Долли, – мягко проговорила Ума, – это не твой ребенок. Как бы тебе ни хотелось, но он не твой и никогда не будет твоим.
– Тебе это, должно быть, кажется очень странным, Ума. Я понимаю, как это выглядит для человека со стороны, такого, как ты. Но для нас все иначе. В Аутрем-хаус мы живем очень тесной жизнью. Каждый день на протяжении двадцати лет мы просыпаемся под одни и те же звуки, слышим одни и те же голоса, видим одни и те же лица и пейзажи. Нам пришлось довольствоваться тем, что имеем, искать то счастье, которое можем найти. Для меня не имеет значения, кто вынашивает этого ребенка. В глубине души я чувствую, что несу ответственность за его зарождение. Достаточно того, что он приходит в нашу жизнь. Он станет моим.
Взглянув на Долли, Ума увидела, что глаза ее полны слез.
– Долли, разве ты не видишь, что после рождения этого ребенка все изменится? Привычная вам жизнь в Аутрем-хаус закончится. Долли, ты должна уйти, пока можешь. Ты вольна уйти – лишь ты остаешься здесь по своей воле.
– И куда я пойду? – улыбнулась Долли. – Это единственное место, которое я знаю. Это мой дом.
10
Когда полные тиковых бревен чаунги, порожденные муссоном, вливались в Иравади, это было похоже на столкновение поездов. Разница заключалась в том, что эта катастрофа непрерывно нарастала, длилась много дней и ночей, несколько недель. Река к тому времени превращалась в разбухший яростный поток, изнуренный перекрещивающимися течениями и изрытый водоворотами. Когда притоки врывались в реку, двухтонные бревна, кувыркаясь, взлетали в воздух, пятидесятифутовые стволы подпрыгивали над водой, словно запущенные озорниками плоские камешки. Грохот напоминал артиллерийскую канонаду, а звуки взрывов разносились на многие мили вглубь материка.
Именно в этих местах, где река встречалась со своими притоками, прибыль тиковых компаний подвергалась максимальному риску. В это время года течение Иравади становилось настолько стремительным, что дерево можно считать потерянным, если его быстро не доставить к берегу. Именно здесь по необходимости бревна передавали от наземных носильщиков водным, от у-си и слонов – матросам и плотовщикам.
Слияния водных потоков охраняли специальные ловцы, которые вытаскивали бревна из реки, за скромные три анна за бревно пловцы устраивали живую сеть через всю реку, вытягивая стволы из бурного течения и направляя к берегу. К началу сезона целые деревни снимались с места и перебирались к реке, занимая удобные позиции. Дети дежурили вдоль берега, в то время как старшие по грудь в воде шныряли между гигантскими стволами, пританцовывая вокруг бурлящих тиковых водоворотов. Некоторые из ловцов возвращались на берег, лежа ничком на пойманном бревне, другие сидели верхом, свесив ноги. Были и те, кто стоял в полный рост, цепкими пальцами ног управляя вертлявым, поросшим мхом стволом, – это были владыки реки, признанные ловцы-мастера.