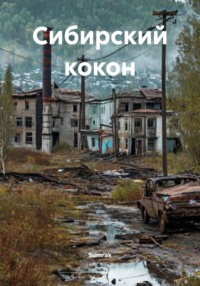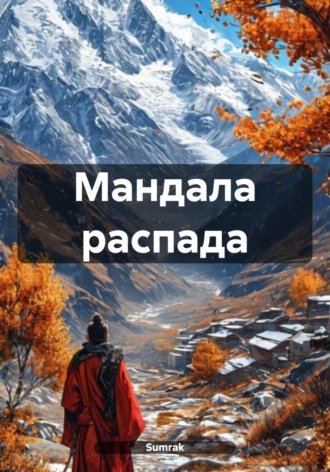
Полная версия
Мандала распада
Он закрыл глаза. Шторм в его голове утих. Все ветви будущего, которые он так отчаянно пытался распутать, схлопнулись в одну выжженную точку. В этот день. В эту комнату. Больше не было пророчеств, была лишь констатация факта, холодная, как отчёт патологоанатома. Игра была проиграна по всем правилам, которые он пытался нарушить. Он вспомнил слова Доржо у костра, сказанные целую вечность назад: «Спасти всех – значит сжечь себя». Он понял свою главную ошибку. Он пытался спасти всех, не сгорая, и в итоге лишь поджёг мир вокруг.
На тёмном экране терминала он видел своё смутное отражение. На него смотрел незнакомый, измождённый старик с провалившимися глазами, в которых не было ни надежды, ни безумия. Только выжженная дотла пустота.
Он позволил себе последнее, осознанное прощание.
Лида. Её образ пришёл легко, без боли. Не окровавленный узел под колёсами грузовика, а смеющаяся восьмилетняя девочка на берегу Байкала, её алый шарф трепещет на ветру. «Прости, сестрёнка, – прошептал он в тишину своей камеры. – Я не смог».
Ольга. Не её гневное лицо во время ссор, а удивлённый, немного восхищённый взгляд на стройке. «Вы словно видите сквозь бетон». Он видел. Видел сквозь бетон, сквозь время, но оказался слеп к живому человеку рядом.
Максим. Этот образ был почти невыносим. Бледное лицо сына на экране, его слабый голос, его наивная спираль, нарисованная на планшете. Волна чистой, отцовской любви и вины накрыла Артёма с такой силой, что он сгорбился, обхватив колени, и его тело затряслось в сухих, беззвучных рыданиях. Он плакал без слёз, как плачут мертвецы.
Его пальцы нащупали на поясе чётки. Он провёл ими, пересчитывая. Сто семь бусин. Он вспомнил, как отдал сто восьмую сыну в Стамбуле. Круг не был замкнут. Теперь он знал, что станет последней бусиной.
Когда рыдания отступили, они оставили после себя звенящую, абсолютную пустоту. Она не была слабостью. Она была ясностью.
Он медленно, с усилием, которое стоило ему больше, чем любой физический труд в его прошлой жизни, поднялся на ноги. Его движения больше не были дрожащими и слабыми. Они стали выверенными, экономными, как у человека, который знает свой следующий и последний шаг. Он не видел будущего. Он его выбрал.
Он стоял посреди своей клетки, выпрямившись, и ждал.
В полной тишине раздался сухой, резкий щелчок. Над массивной гермодверью загорелась маленькая красная лампочка. А затем из динамика громкой связи донёсся первый треск статики, разрывающий вакуум тишины, как скальпель, входящий в плоть.
Нулевой час начался.
Камера могла бы застыть на лице Артёма – спокойном и оттого страшном в своей мёртвой решимости. Он был готов.
Глава 78. Голос из машины
Треск статики был коротким, как щелчок затвора. А затем тишину разорвал голос.
Он был не громким, не искажённым помехами, а кристально чистым, безупречно обработанным, словно исходил не из дешёвого динамика, а из самой структуры этого места. Голос не человека, а системы. Голос машины, которая знала твоё имя.
– Гринев!
Артём не шелохнулся. Он ожидал этого. Он стоял посреди своей бетонной клетки, прямой, как натянутая струна, и этот контраст между его ледяным спокойствием и всепроникающим голосом создавал почти невыносимое напряжение. Он смотрел в пустоту перед собой, но чувствовал на себе холодный, немигающий взгляд камеры в углу потолка. Хирург убедился, что пациент в сознании. Операция начинается.
– Ты, должно быть, считаешь себя особенным, – голос Крутова был ровным, почти скучающим, лишённым всякой эмоции. Так профессор начинает лекцию, которую читал уже сотни раз. – Носителем тяжкого бремени. Пророком, обречённым видеть то, чего не видят другие. Это очень удобная позиция. Возвышенная. Она придаёт смысл страданиям, не так ли?
На фоне его ровного голоса Артём услышал новый звук, далёкий, но отчётливый – прерывистый, нарастающий вой сирены, который тут же был кем-то отключён. Крутов не хотел, чтобы его жертву отвлекали.
– Давай поговорим о твоём даре. О твоём «шёпоте времени». Ты когда-нибудь задумывался, Артём, что на самом деле видишь? Ты видишь трещины. Катастрофы. Смерть. Твой дар – это дар могильщика. Ты видишь не жизнь, которую можно спасти, а лишь разные способы умереть. Ты никогда не видел рождения, не предсказывал любовь или внезапное счастье. Твой взгляд прикован к распаду. Ты – ходячий некролог этого мира, который читает заголовки завтрашних газет, но никогда не видит первой полосы. Только последнюю.
Артём медленно поднял голову и посмотрел прямо в чёрный зрачок камеры. Его лицо было лишено всякого выражения. Он не спорил. Он слушал. Он позволял этому голосу проникать в себя, потому что знал, что ему нужно это услышать.
– И что ты делаешь со своим знанием? Ты вмешиваешься. Суетишься. Пытаешься подставить плечо там, где мироздание решило обрушить стену. Ты похож на ребёнка, который пытается ладошками остановить прилив. Ты не спасаешь песчаный замок, ты лишь делаешь воду вокруг себя мутной. Каждое твоё вмешательство, Артём, – это камень, брошенный в спокойную воду кармы. Ты видишь первый круг на воде, но не видишь волны, которая через милю перевернёт чью-то лодку.
Голос Крутова на мгновение стал тише, почти доверительным, и от этого ещё более чудовищным. Снаружи, за гермодверью, донеслись торопливые шаги нескольких человек, короткая, резкая команда. Затем снова тишина. Крутов зачищал эфир, создавая для Артёма идеальный вакуум, в котором будет звучать только его голос.
– Тебе кажется, что ты борешься с судьбой. Героическая, красивая борьба. Но ты никогда не задумывался, что твой дар – это не оружие против судьбы, а её самый изощрённый инструмент? Что если мирозданию для поддержания баланса нужно не твоё спасение, а твоя суета? Что если ты – просто катализатор, который система использует для запуска более сложных, более масштабных процессов? Ты не борешься с энтропией. Ты её разносишь, как ветер разносит семена ядовитого плюща.
Впервые за долгое время лицо Артёма изменилось. Он едва заметно нахмурился. Крутов нащупал что-то важное.
– Подумай о природе выбора, Артём. Твой учитель-монах наверняка говорил тебе о свободе воли. Но какая может быть свобода, когда ты заранее видишь лишь плохие варианты? Твой дар не расширяет твой выбор, он его сужает до одной-единственной точки – до катастрофы. Ты не выбираешь путь. Ты лишь выбираешь, как именно споткнуться. Все твои решения – это метания в лабиринте, стены которого уже построены. Ты можешь бежать налево или направо, но всё равно упрёшься в тупик, который был предопределён.
Крутов сделал ещё одну паузу, позволяя метафоре проникнуть в сознание Артёма.
– Твоя вечная вина – это топливо, на котором ты работаешь. Ты постоянно ищешь искупления за прошлое, за сестру. И эта потребность в искуплении ослепляет тебя. Она заставляет тебя бросаться на любую амбразуру, не думая о последствиях. Ты не спасаешь других, Артём. Ты пытаешься спасти себя от самого себя. Но это невозможно. Потому что чем больше ты «спасаешь», тем больше создаёшь причин для новой вины. Это идеальный замкнутый круг. Самоподдерживающийся механизм страдания.
– Ты считаешь себя игроком, который пытается обыграть казино. А на самом деле ты – шарик, который крупье запускает на рулетку. И неважно, на какой номер ты упадёшь. В любом случае выигрывает заведение. Твоя трагедия, Артём, не в том, что ты видишь будущее. А в том, что ты веришь, будто можешь его изменить.
Голос замолкает. Тишина, наступившая после него, кажется оглушительной, звенящей. Крутов не стал продолжать. Он бросил первую наживку, задал общий, философский тон. Он не сломал Артёма, но он заставил его усомниться не в своём даре, а в своей роли. Он методично демонтировал саму основу его личности – веру в то, что его страдания имеют высший смысл.
Артём всё так же стоит посреди камеры. Но теперь его плечи чуть опущены. Первая линия обороны – вера в свою миссию – дала трещину. Он ждал следующего удара, зная, что он будет более точным и более жестоким.
Глава 79. Бухгалтерия пепла
Тишина длилась ровно столько, чтобы предыдущие слова успели пустить в душе Артёма ядовитые корни. Ровно столько, чтобы он успел почувствовать холод сомнения, подтачивающий гранитную плиту его страданий. А затем голос Крутова вернулся. Его тон изменился. Он стал сухим, деловым, лишённым даже намёка на философию.
– Хватит метафор, Гринев. Давай поговорим о твоей бухгалтерии. О дебете и кредите твоих «спасений». Я люблю точность.
Голос звучал так, словно Крутов невидимой рукой перелистнул страницу в объёмном досье. Артём почти физически ощутил, как открывается папка с его именем, и от этого по спине пробежал холодок, не связанный с температурой в камере.
– Чита, 2010 год. Трансформаторная подстанция. Ты предотвратил короткое замыкание. Спас двоих. Герой. А вот то, чего ты не видел: так как подстанцию не пришлось сносить, прилегающий участок признали безопасным. Через три года там строили торговый центр. Лопнул трос. Бетонная плита раздавила двух монтажников. Один из них – восемнадцатилетний племянник того самого электрика, которого ты «спас». Он приехал в город на заработки по приглашению дяди, устроившего его на эту «безопасную» стройку.
Артём сглотнул, во рту внезапно пересохло. В ушах зашумело, как от резкого перепада давления. Он невольно сделал шаг назад и упёрся в холодную стену, которая, казалось, единственная удерживала его от падения.
В сознании Артёма вспыхнуло лицо того электрика – немолодого, уставшего, с въевшейся в кожу грязью. Он помнил его сбивчивую, захлёбывающуюся благодарность. А теперь этот образ сменился тёмной, сырой ямой котлована, наполненной криками и пылью. Благодарность на его языке внезапно обрела привкус крови.
Крутов не давал ему опомниться, не давал времени на осмысление.
– Идём дальше. Падающий кран. Ты спас целую бригаду – пять человек. Один из них, некий Сидоров, через год, отмечая свой «второй день рождения», сел пьяным за руль и сбил на переходе мать с ребёнком. Оба насмерть. Ты подарил ему жизнь, Артём, а он использовал твой подарок, чтобы отнять две другие. Кто теперь за них в ответе?
Артём вспомнил ту эйфорию. То пьянящее чувство всемогущества, когда он, простой инженер, смог обмануть саму смерть. Сейчас это чувство казалось ему омерзительным, грязным, как одежда пьяного убийцы.
Артём заставил себя поднять взгляд на камеру. Он лжёт. Он манипулирует, – пронеслось в голове, но эта мысль была слабой, как писк мыши под рёв урагана фактов, которые звучали пугающе достоверно.
– А тот парень, однокурсник? Тот, чью смерть ты увидел, но промолчал? Ты тогда упивался своей виной. Но ты не видел дальше. Его девушка, потеряв его, через полгода вышла замуж за другого. Родила двоих детей. Живут в Сочи. Счастливая семья. Если бы ты его «спас», этой семьи бы не существовало. Твоё бездействие, Артём, оказалось более созидательным, чем все твои героические поступки.
Он почувствовал, как по спине медленно поползла капля холодного пота. Воздух в камере стал густым, его не хватало. Он прижал ладонь к груди, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, которое стучало так громко, что, казалось, его слышно даже через динамик.
Голос Крутова подводил итог своему безжалостному обвинению.
– Вот твоя бухгалтерия, Артём. На каждой спасённой тобой странице – счёт, выписанный кровью других людей. И это лишь то, что мы знаем. Лишь то, что смогли отследить мои аналитики. А сколько ещё таких «эффектов бабочки», которые ты запустил? Сколько ещё смертей, трагедий, сломанных жизней лежит на твоей совести, скрытых от твоего всевидящего ока? Ну что, пророк, просчитал все варианты?
На бетонном полу ячейки Артёму на мгновение померещились расходящиеся круги, как от камня, брошенного в воду. Но круги эти были тёмными, маслянистыми, как нефтяные пятна, и они расползались, поглощая всё.
Голос снова замолкает. На этот раз тишина давила, как тонны воды.
Артём стоял, опустив голову. Его плечи ссутулились, он словно стал ниже ростом под тяжестью этих неопровержимых фактов. Он не мог ничего возразить, потому что чувствовал ужасающую, тошнотворную правоту в словах своего мучителя. Его дар был не скальпелем хирурга, а топором безумца в тёмной комнате. Куда ни ударь – попадёшь в живое.
Его молчание было признанием вины. Полным и безоговорочным.
Камера могла бы сфокусироваться на его сжатых в кулаки руках. Костяшки пальцев побелели до синевы. Это было единственное внешнее проявление той бури, что бушевала внутри. Он не мог защищаться. Он мог лишь терпеть, пока его мир рушился, камень за камнем, под ударами этого ровного, бесстрастного голоса.
Глава 80. Зёрна в огне
Голос Крутова, нанёсший последний, самый ядовитый удар, растворился в тишине.
«…Или твой дар – тоже иллюзия? И ты всё это время был просто сумасшедшим, которого мы очень эффективно использовали?»
Воцарился вакуум. Артём стоял, опустив голову, его лицо было скрыто в тени. Он молчал. Это было молчание не сломленного человека, а сознания, очищенного от всего наносного, от многолетней лжи самому себе, от веры в свою миссию.
И в этой оглушающей тишине, наступившей после монолога Крутова, родился новый звук. Едва слышный, но нарастающий высокочастотный гул из самых недр «Анатолии». Он не был похож на ровную работу реактора. Это был тонкий, звенящий вой, как будто в огромной машине натянулась до предела невидимая струна. Аварийная лампа в ячейке Артёма мигнула раз, другой, и погасла на целую секунду, погрузив его в абсолютную темноту, прежде чем снова зажечься. На его запястье, там, где под кожей был вживлён биометрический датчик, он почувствовал короткий, резкий электрический разряд. И в этот миг Артём вспомнил слова из дневника отца Елены, которые ему когда-то показывали в лаборатории: «Дар – не мистика, а способность сознания входить в прямой резонанс с нулевым полем, становясь одновременно и приёмником, и передатчиком. Любая сильная, сфокусированная эмоция – это всплеск, возмущение в поле».
Его собственное сознание, достигшее точки абсолютной пустоты, очищенное от хаотичных импульсов страха и надежды, на мгновение стало идеальным проводником. Этот резонанс вызвал в нулевом поле реактора ответный всплеск энергии.
Внешний мир для Артёма исчез. Высокочастотный гул станции трансформировался в его сознании в пронзительный треск костра. Запах озона и металла сменился густым, пряным запахом дыма и сухой степной травы. Он снова был там. Бурятия, август 1998 года.
Он – двенадцатилетний мальчик, сидит на корточках у костра, выложенного камнями в форме мандалы. Рядом Доржо, его лицо, ещё не тронутое глубокими морщинами, освещено оранжевым пламенем. Лида где-то рядом смеётся, её голос – беззаботная музыка на фоне тревожного треска огня.
Доржо берёт в ладонь горсть сухого, белого риса.
– Каждое зерно – жизнь, за которую ты держишься, – говорит он тихо. – Брось его – отпусти карму.
Он сыплет зёрна в огонь.
– Это не игра, – строго повторяет он слова, сказанные Лиде. Но теперь они обращены к Артёму. – Ты хочешь спасать. Но ты не спасаешь зёрна от огня. Ты лишь заставляешь их шипеть и чернеть быстрее. Огонь всё равно заберёт их. Таков его закон.
Это не просто воспоминание. Это прозрение. Артём видит сцену не глазами испуганного мальчика, а глазами тридцатидевятилетнего мужчины, стоящего на краю бездны. Он смотрит на молодого Доржо и понимает, что учитель тогда, двадцать семь лет назад, видел всё. Он видел этот день, этот реактор, этот гул.
Маленький Артём, как и тогда, вырывает руку и бросает в огонь свою горсть риса. Пламя взметается, и в дыму, как на киноплёнке, мелькают образы: грузовик, алый шарф, его собственное лицо, искажённое ужасом.
– Хватит! – Доржо резко гасит костёр, и веселье Лиды обрывается.
– Почему вы остановили меня? Я же почти увидел…
– Увидел бы смерть, – голос Доржо звучит в голове взрослого Артёма с новой, страшной ясностью. – Спасти всех можно, только став дровами. Ты готов сгореть?
Видение тает. Артём снова в своей камере. Высокочастотный гул усилился, превратившись в низкий, протяжный вой, от которого завибрировали стены. Он смотрит на свои руки.
Слова Крутова – ложь и манипуляция. Его дар – не иллюзия. Он реален. Но страшная правда была в другом.
Доржо не учил его, как избежать судьбы. Он с самого начала готовил его к этой роли. К роли жертвы. К роли дров для большого костра. Все его уроки о карме, о принятии, о сострадании были не инструкцией по спасению, а медленной, многолетней подготовкой к самосожжению. Он должен был стать тем зерном, которое сгорит, чтобы погасить пламя.
Это осознание не принесло облегчения. Оно принесло страшную, ледяную, абсолютную ясность. Он не неудавшийся спаситель. Он – идеально подготовленный инструмент для совершенно другой цели.
Артём поднял глаза на камеру. В его взгляде больше не было ни боли, ни поражения. Только спокойное, холодное пламя. Он понял свою истинную роль. И он принял её.
В тот же миг в бункере управления у Олега Крутова на главном мониторе аварийной системы вспыхнула ярко-красная строка, перекрыв все остальные данные:
ВНИМАНИЕ: НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НУЛЕВОГО ПОЛЯ. ИСТОЧНИК – БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ‘ГРИНЕВ’.
Крутов подался вперёд, его лицо мгновенно стало жёстким.
Артём же не чувствовал этого как сбой. Он почувствовал это как возвращение. На одно мгновение он снова был двенадцатилетним мальчишкой на берегу Байкала. Доржо заставил его медитировать, глядя на ледяную воду, пока его тело не перестанет дрожать от холода. «Страх – это шум, Артём. Вина – это шум. Надежда – тоже шум. Найди тишину под ними. Пустоту. Только из неё можно действовать, а не реагировать».
И сейчас, когда Крутов обрушил на него всю тяжесть его вины, он, вместо того чтобы сломаться, провалился сквозь этот шум – в ту самую ледяную, байкальскую тишину. В пустоту. И из неё родилась не боль, а абсолютная, холодная ясность. Его психологическая атака не сработала. Она стала последним толчком, завершившим двадцатилетнюю медитацию. Ключ в руках Крутова не сломался. Он обрёл свою истинную форму.
Внешний мир для Артёма исчез. Высокочастотный гул станции трансформировался в его сознании в пронзительный треск костра. Он снова был там. Бурятия, август 1998 года. Доржо бросает в огонь зёрна риса. «Ты не спасаешь зёрна от огня. Ты лишь заставляешь их шипеть и чернеть быстрее».
Видение тает. Артём снова в своей камере. Он понял: Доржо не учил его, как избежать судьбы. Он с самого начала готовил его к роли жертвы. К роли дров для большого костра.
Это осознание не принесло облегчения. Оно принесло страшную, ледяную, абсолютную ясность. Артём поднял глаза на камеру. В его взгляде больше не было ни боли, ни поражения. Только спокойное, холодное пламя.
Глава 81. Ржавый выдох
Высокочастотный вой, который, казалось, сверлил саму костную ткань, внезапно изменил тональность. Он не стих, а опустился на несколько октав ниже, превратившись в утробный, низкий рокот. Артём почувствовал это изменение не только ушами. Воздух в камере уплотнился, словно его накачали невидимой, тяжёлой субстанцией. На мгновение ему показалось, что он погружается в воду. Это было первое проявление нестабильности нулевого поля – его дар чувствовал не только будущее, но и искажения самой ткани пространства.
И тогда он услышал новый звук.
Из вентиляционной решётки под потолком, которая до этого молчала, донёсся глухой, скрежещущий стон, будто кто-то проворачивал гигантские, заржавевшие лопасти вентилятора. И оттуда, из темноты, посыпалось.
Первая порция пепла.
Это были тяжёлые, маслянистые, тёмно-бурые хлопья с тусклым металлическим блеском. Они медленно, почти лениво, кружили в единственном луче аварийной лампы, как ржавый, отравленный снег.
Артём поднял голову, и его не охватил ужас. Лишь странное, холодное узнавание. Он просто смотрел. Он знал, что это за пепел. Это был тот самый чёрный песок из его самых первых видений, из ритуальной чаши Доржо, из самого сердца реактора. Песок, ставший летучим прахом.
Одна крупная, идеально сформированная частица, похожая на обугленный осенний лист, медленно опустилась и легла на тыльную сторону его ладони. Она не была горячей. Она была холодной, как лёд, и от её прикосновения по коже пробежали мурашки.
Пепел начал оседать на пол. Сначала хаотично, покрывая бетон тонким, тёмным налётом. Но потом Артём заметил странную, неестественную закономерность. Он почувствовал это раньше, чем увидел: слабое, почти неощутимое изменение в давлении воздуха, чувство лёгкой тошноты, как при морской болезни. Ощущение, что его тело на мгновение стало тяжелее, а потом – легче. Его внутреннее ухо сходило с ума, пытаясь найти привычную вертикаль в мире, где сама гравитация начала подчиняться чужой, безумной геометрии. Это был тот самый «Код Спирали» Черниговского, проявленный не в формулах, а в физической реальности. Фундаментальный закон распада, обнажившийся в сердце реактора, теперь диктовал материи, как ей себя вести.
Именно эти поля, а не потоки воздуха, направляли частицы, заставляя их оседать по определённым, чётким линиям. Процесс был медленным, гипнотическим. Прямо у его ног начала проступать дуга. Ей потребовалось несколько мучительно долгих секунд, чтобы завершиться. Затем, напротив неё, так же неспешно, начала формироваться вторая. Они соединились, образовав почти идеальный круг.
– Что это за дрянь? – рявкнул Крутов в селектор, не отрывая взгляда от монитора, на котором транслировалось изображение из камеры Артёма.
Тишина в эфире длилась несколько долгих, напряжённых секунд. Наконец, донёсся голос ведущего физика, в котором слышалась плохо скрываемая паника:
– Олег Андреевич, мы не знаем! Предварительный анализ… он бессмысленный. Спектрометры показывают сигнатуры монацита, но с аномальной изотопной структурой. И.. и органика. Система помечает это как ошибку датчиков, но выброс реален! Нам нужно время…
– Времени нет! – оборвал его Крутов. – А гравитационные поля? Что с ними?
– Они есть. Слабые, но… структурированные. Это не гравитация в чистом виде. Похоже на локальное искажение пространства, вызванное резонансом нулевого поля. Система входит в режим неконтролируемой самоорганизации, которого не было ни в одной модели Черниговского! Это невозможно. Это нарушает всё, что мы знаем. Похоже на…
Голос прервался. Крутов понял: его команда, его наука, его контроль – всё это оказалось бессильно. Он столкнулся с тем, что нельзя просчитать. На его лице, которое мгновение назад было маской всезнающего контроля, проступило недоумение, быстро сменяющееся тревогой. Он терял контроль.
Артём больше не был просто наблюдателем. Он медленно опустился на колени. Он смотрел, как узор на полу становится всё сложнее. От внешнего круга к центру начали тянуться первые лучи – тонкие, изящные спицы будущего колеса. Он понимал, что это не просто узор. Это автопортрет станции. Её предсмертная мандала. И он, Артём, был её центром, её осью.
Он протянул руку и коснулся пальцем линии из пепла. Частицы тут же прилипли к его коже, холодные и чуть шероховатые. Он больше не был жертвой. Он стал соучастником, почти жрецом этого последнего, страшного ритуала творения через разрушение.
Он стоял на коленях в центре неполной, но уже безошибочно узнаваемой мандалы, нарисованной на полу чёрным, мёртвым пеплом. А сверху, из безмолвной вентиляционной решётки, продолжал сыпаться ржавый снег, неотвратимо дорисовывая последнюю картину этого мира.
Глава 82. Камень и круг
Артём стоял на коленях в центре растущей мандалы из пепла. Рёв станции становился всё глубже, вибрация прошивала тело насквозь, но он почти не замечал этого. Его рука, испачканная тёмными частицами, словно живя своей собственной жизнью, потянулась к поясу. К чёткам.
Пальцы нашли знакомую, отполированную тысячами прикосновений поверхность деревянных бусин. Это была единственная реальная, тёплая вещь в этом холодном, умирающем мире. Он не молился. Он просто считал. Машинально, как дышал. Это было движение, въевшееся в самую суть его моторики за долгие годы. Одна бусина. Вторая. Десятая. Пятьдесят третья.
Его большой палец, скользя по нити, дошёл до конца. Сто восемь. Круг был цел. Чётки были полны. И в этом была самая страшная ирония. Его инструмент для достижения гармонии был в идеальном порядке, в то время как его собственный мир распадался на атомы. Он усмехнулся, и усмешка вышла сухой, беззвучной. Он сжал чётки в кулаке, дерево едва слышно хрустнуло.
И эта усмешка, этот жест бессилия стал ключом, открывшим шлюз памяти.
Яркая, чистая, невыносимо болезненная вспышка.
Стамбул. Больничная палата, пахнущая антисептиком и отчаянием. Десять минут под взглядом человека Крутова, стоявшего у двери.