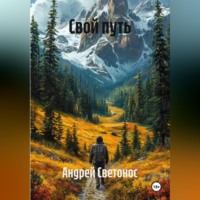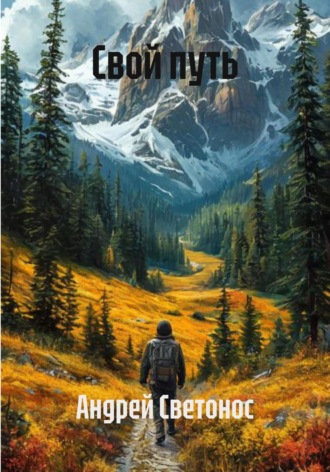
Полная версия
Свой путь
Рюкзаки ждали ребят почему-то на другой стороне от тропы, а я свой укладывал у костра, как и остановился. И между нами, при этом, оказались десятки метров и сама тропа. Вдруг, со спины, я услышал негромкой, но утробный гик, характерный для наездников. Хоть ум мой и отказывался, но я сразу всё понял и, уже готовый к встрече с местными жителями, спокойно развернулся. Со стороны озера, откуда и мы пришли, двигалась ватага всадников. Тот звук был знаком вожака к остановке движения. Как ехали они гуськом, согласно узкой тропе, так и остановились, закрыв от моего взора ребят. Их было девять, все довольно молодые и, кроме одного русского, идущего вторым, все – алтайцы. Одеты они были по-охотничьи, но оружия при них видно не было. Остановившись дружно, спешиваться даже не собирались. Возглавлявший процессию вожак-алтаец лет тридцати, крупного телосложения, явно националистически настроен, с надменным выражением на лице обратился ко мне, не удосужившись даже как-то поприветствовать:
– Верёвку подари! …По моей земле ходишь! – возвысил он агрессивно властный тон на последней фразе.
К этому времени я уже успел застегнуть свой рюкзак. И, нарочито нагло, глядя ему прямо в глаза, приподняв с подчёркнутым достоинством бороду, я, демонстративно луща руками шишку и по-хамски сплёвывая ореховую шелуху, неспешно и нараспев ответил:
– А нет верёвки, её позади моя группа несёт, – и показал левой рукой в сторону общего исхода.
– Тогда нож подари! – продолжал вымогать алтаец.
– Нет и ножа у меня, у нас один на всю группу, – снова соврал я ему.
Не ожидая, видно, такого уверенного отпора от меня, он повернулся в сторону моих новых спутников и спросил что-то у них. Ребята наверняка слышали мои громкие ответы, и, думаю, подготовились как-то, оперевшись на мой опыт. Но мне не было слышно из-за расстояния и преграды в виде конского тела, о чём был у них столь же короткий разговор. Ребята укладывали вещи совсем рядом с тропой, и алтаец прямо нависал над ними. До меня доносился лишь тон голосов. Согласно звукам я понял, что в ответ алтайцу наверняка Владимир что-то пробубнил сдавленным голосом, также, вероятно, отказав. По меньшей мере, было явно, что и ребята не подали наглецу ничего.
Вожак снова повернулся ко мне, очевидно приняв за их руководителя, и пригрозил бандитским тоном:
– Ладно..! Ещё встретимся..!
При этом русский всадник, глядевший тупо всё время в спину вожака, делал вид, что его здесь нет. «Вот так ведут себя предатели среди славян» – подумал я с досадой. «За державу обидно…!» – как говорил герой фильма «Белое солнце пустыни». Остальные всадники смотрели на меня, как на потенциальную жертву рэкета, не смея, видимо, без команды встревать. На лицо у них была жёсткая иерархия. И, более ничего не выразив, ватага, глядя перед собой и также не спеша продолжила движение, очевидно, в село Кучерла, населённое одними алтайцами. А мы, молча взвалив свои ноши на спины, пошли вослед, с надеждой, в дальнейшем, незаметно обойти эту деревню, стоящую на три километра раньше Тюнгура. …И верёвка, и плохонький нож покоились у меня в рюкзаке. Но в любом случае, ничего бы не отдал.
Теперь я шёл уже темпом моих спутников, хотя и в лидирующем положении. Лена шла следом, а Владимир сразу начал отставать, сильно прихрамывая. Мы с Леной, сходу увлёкшись разговорами, продолжая идти уже плечом к плечу её темпом, постоянно отрываясь на сотни шагов от Владимира. И, почувствовав в очередной раз его отсутствие рядом, мы оглядывались и делали короткий привал в ожидании его подхода. Хоть я и не спрашивал, но на первом же привале Лена пояснила мне:
– Он сильно натёр ногу, поэтому мы и ушли вперёд группы, маршрут у нас закончен.
– Тогда давайте пойдём медленнее, а то как-то неудобно, – предложил я и мы с ней поначалу сбавили темп.
– Может уже перейдём на «ты»? – предложила вскоре Лена, видимо разглядев во мне надёжного спутника и интересного ей собеседника.
– Да, конечно, так проще общаться, – согласился я с готовностью, понимая, что надо успевать общаться накоротке, когда есть такое взаимное доверие. Ведь вряд ли случится увидеться ещё.
И, действительно, с первой же минуты нам с ней стало интересно беседовать, и время на ходу пошло незаметно, и сил будто прибавилось. Почти все темы наших разговоров инициировались ею и мнения по ним не вызывали, к моему удивлению, никаких разногласий. Она умела слушать терпеливо, не торопя и не перебивая, что создавало непринуждённость и удовольствие от общения. Умение слушать, надо сказать – это лучшее из качеств собеседника. Однако, увлёкшись беседой, мы, видимо, снова переходили на удобный для Лены темп и отрывались от Владимира иногда уже настолько, что теряли его из виду. И, присаживаясь на очередную удобную валежину, ждали его, продолжая непрерывную беседу. Будучи, очевидно, охотчивыми до разговоров, мы оба, явно, наскучались по хорошему собеседнику. А Владимир подходил с каждым разом всё более хмурым, глядя на беспрерывный и увлечённый разговор. Но нам уже было не остановиться. К тому же Лену нисколько не смущала его хмурость. И, отмечая это для себя, я был спокоен и даже счастлив, ведь счастье – это взаимопонимание между людьми.
Темы нашего разговора удивительно гармонично перетекали от одной к другой. Поначалу мы делились впечатлениями о здешних местах, постепенно раздвигая географию своих путешествий. Я рассказал Лене о своих ощущениях на ледниках Белухи по её просьбе. Повествовал об экспедициях на Тянь-Шане и на Памире, о национальных особенностях племён и народов, с кем имел возможность лично общаться. Постепенно мы перешли и к обсуждению мистической составляющей путешествий её и моих. Было приятно, что наши мнения полностью сходились на любых темах. Разговор шёл почти на равных. Когда мы уже перебрали, будто бы, все «высокие» темы, Лена среди вопросов об этносах спросила и о насущном:
– Как ты думаешь, Андрей, грозит ли нам ещё встреча с местными вымогателями, подобная сегодняшней? И насколько они могут быть нам опасны?
– Встречи такие, конечно, возможны. Но в светлое время дня вряд ли опасны. Несмотря на напыщенный пафос, тюркские племена трусоваты. Но в тёмное время суток они точно будут смелее, однако, не поодиночке, конечно. Будем надеяться, что Провидение нынче избавит нас от подобных встреч, – начал я пояснять свои исследования.
– Это, вероятно, общая тенденция нашего времени – расцвет рэкета во всех сферах, – продолжила тему Лена.
– И это тоже. Но здесь стоит ещё понимать, что у всех, отдалённых от городских агломераций малых народностей, очень отличающаяся, от нашей, культура. У них не только свои обычаи, но и их взаимоотношения между своими нам могут показаться диковатыми, мягко говоря. В одном ряду у них стоят гостеприимство и ксенофобия, бескорыстность и в высокой степени чувство собственности. К земле в том числе, и личной, и племенной. Помнишь, как тот алтаец подчеркнул: «по моей земле ходишь». Значит – компенсируй чем-либо за то, что землю его топчешь. Я думаю, что в их, консервативном, сознании остаётся своеобразный феодализм, но этого никто из них, конечно не признает.
– Даже так?! Это как-то диковато… – удивилась Лена.
– Для нас это так. А для них в порядке вещей такое. В ближайшем из городов найти бомжа, уговорить себе в работники за кров, одежду и кормление. Затем: привезти к себе в глубинку, устроить, одеть мал-мальски, кормить. А за это заставлять работать столько, сколько хозяин захочет. Но если такой работник плохо работает или вообще отказывается, то хозяин его просто вывозит на трассу и бросает подальше от своего хозяйства, не обеспечивая возвращения туда, откуда забрал.
– Откуда ты это знаешь? – с некоторым недоверием спросила Лена.
– Сам слышал, и не раз, как при мне алтайцы без стеснения между собой обговаривали эту тему на вокзалах. При этом они называли любых наёмных людей рабами.
– Все такие что ли? – не хотелось ей верить в такую дикость.
– Думаю что нет, в статистику не вникнешь. Кто бы её ещё вёл?! В разных районах, тем не менее, слышатся такие разговоры, причём и среди местных русских. Но если, по предварительной договорённости, попадаешь к местным в гости, то гостеприимство может быть абсолютно бескорыстным. Особенно если гость ранее оказал хозяину хоть малейшую услугу. Но скоро наступят времена, когда местных научат монетизировать свои услуги туристам и тогда не будет больше такого вымогательства.
Так мы, без умолку, на ходу, рассуждали, оставшиеся полдня, на разные темы, включая и религиозные, и эзотерические. Ущелье постепенно расширялось, открывая нам красивые поляны с многовековыми гигантами-лиственницами, растущими на уважительном расстоянии друг от друга. Они выглядели стражниками, хранителями «заповедного» пространства, своей мощью остерегая посетителей от варварского отношения к природе. При приближении к исполинам возникало подспудное желание испросить у них позволения на проход с вежливым поклоном. А они в ответ, казалось, оценив натуру пришельца, великодушно давали «добро». …И, удобно устроившись под кронами этих стражей на очередной минутный привал, мы с Леной продолжали оживлённую беседу.
– Вот меня всё время мучает такой вопрос: почему носители всевозможных религиозных конфессий как-то постепенно становятся всё агрессивнее, каждый раз, со времени основания мирной и глубоко нравственной религии, – задала Лена обсуждение очередной темы.
– Да, это так, но всё объяснимо. Идейную основу любой конфессии составляет школа духовного учителя, который не может иметь организаторских способностей, потому что они противоречат его натуре и предназначению – совершенно и определённо. Поэтому религиозную структуру может создать лишь властолюбивый человек. А у него и у следующего за ним не могут отсутствовать такие качества, как ревность и зависть, которые рано или поздно, но постепенно проявятся в отношении иноверцев. А это ведёт к возбуждению у религиозных фанатиков агрессивной реакции на инакомыслие. В крайнем итоге всё это приводит к религиозным войнам.
– Ничего себе, как коротко и ясно всё рисуется. Соль истины – есть краткость. Тогда скажи, почему у человечества столько религий и количество конфессий всё растёт? – с усиленным интересом продолжала развлекаться Лена.
– Да потому же, что властолюбивые люди желают иметь личную паству. Ведь любая религия – есть власть над душами. Бесспорно, что все религии несут, прежде всего, нравственные начала, но каждая гласит лишь свою часть истины, необходимую для своей культурной и языковой среды. Каждая религиозная ли, магическая ли, духовная школа обладает только долей истины, всю полноту которой человек знать не может.
– Ну, как же? Человек же создан по образу и подобию!
– По образу и подобию всего земного, прежде всего. Вот, к примеру, волосы и ногти – представляют флору, а всё тело – фауну. В душе каждого человека, конечно, частичка Бога, но только частичка. А если разобраться, то эта частичка – лишь нить, связующая с божественной иерархией. Но современный человек забыл про эту нить, потеряв или, в лучшем случае, сильно ослабив устойчивую связь с «Небом». А она всё-таки пробивается – в виде интуиции. Но, пока человек живёт в этом земном мире, он, в соответствии с божественном законом, сильно ограничен в познании вообще.
– Но почему же, это как-то даже обидно, – продолжала стимулировать меня на эту тему Лена.
– Вот поэтому ему и дана эта связь – через интуицию. И специально ещё для того, чтобы индивид сам, имея свободу мысли и интуитивное чувство, нашёл своё предназначение в земной жизни. Но всё-таки главное для человека – укрепить ту связь, о которой я сказал, доверяя своей интуиции, которая никогда не подведёт, потому что только через неё можно получать достоверное знание. А вот сделка с совестью всегда только рвёт её.
– Ну, хорошо. А если интуиция противоречит логике?
– Логика – и есть капкан, в который человек зачастую сам себя загоняет. Лишь интуиции надо доверять, отбрасывая логическую цепочку, место которой может быть где угодно, только не при принятии решений, спонтанность которых оправдана практикой наиболее успешных в человечестве личностей. …Так я не закончил о религиях. Во-первых, новую религию основывают, прежде всего, в соответствии с культурой конкретного этноса, опираясь, конечно, на прежнюю, и в связи с новыми открытиями в области нематериального. Но новые открытия являются забытыми старыми знаниями. Из-за уничтожительных войн или природных катаклизмов люди много чего забывают. А наступают времена возрождения культуры – тогда новые поколения делают сызнова те же открытия, полагая что – впервые в истории. Таким образом, человечество «блудит» вокруг, да около, коротко говоря, и в духовной области, и в технократической. А все религии, по сути, происходят изначально от одной, монотеистической.
– И какой же? – пристрастно глянула мне в глаза Лена.
– На памяти человечества – это зороастризм. Глубже в древность заглянуть нет возможностей.
– А как же шаманизм?
– Шаманизм не противостоит, если разобраться, никаким религиям. Вера в одного Бога не исключает использование людьми с, так называемыми, сверхспособностями, сакральных знаний, стихий и представителей самых нижних уровней божественной иерархии, для целительства и предсказаний. Всё вместе показывает букет возможностей человека, данных ему Богом, поскольку сами сверхспособности являются такими же естественными, как и всё вокруг, постижимое и кажущееся непостижимым. А вся, так называемая, нечисть, мирно живёт в рамках божьего творения, не вредя человеку по своей воле. Только сам человек, имея от Бога достаточно свободы воли, может использовать её во вред и другим, и себе (в обратку), как говорится – не ведая, что творя. Сама же нечисть, как раз, не имеет свободы воли и даже намерения вредить кому-либо. Она исполняет свои функции в своей области, не связанной с человеческим бытиём. Среди людей же Бог производит отбор, в рамках которого те, кто не искушается на потакание собственным низменным желаниям – будет избран. А те, кто поддаётся искушению на свои слабости и корыстные злоупотребления, тот сам себя накажет, в соответствии с Законом Божьим. Бог же не наказывает, любя все свои создания, наказывает Закон. А между религиями, если опять же разобраться, нет противоречий для вдумчивого человека. Просто многие безграмотные люди, порой даже не читающие, или по-своему интерпретирующие святые писания, трактуют их произвольно, порой провозглашая то, чего в них и нет.
– Откуда ты это всё знаешь? – уже с лёгким вызовом и, тем не менее, с заинтересованностью и доверием «пытала» меня Лена.
– Исследовал, с помощью непредвзятого анализа, накопленные человечеством знания. А эти исследования подтвердились интуицией и определённым личным жизненным опытом. И в результате перешли на уровень убеждения. Ничего сверхъестественного, ибо всё, что человек может знать, видеть и чувствовать – всё естественно.
– А сам ты хорошо ладишь со своей интуицией?
– Пока, признаюсь – плохо. Пока в отрыве от цивилизации, ещё использую её. В городской же суете часто предпочитаю привычную логику, искушаясь своим желаниям и желаниям самых близких. А потом за это получаю наказание от судьбы. И вспоминаю задним числом, что интуиция кричала ведь: – не делай так! Не послушал и сам себя наказал. Вот так и учусь.
– Да уж, все мы так… – вздохнула Лена, а через паузу задала новый вопрос:
– А зачем вообще нужны религии, если есть вера в душе, в сердце?
– Глубокомысленному человеку, может, и не надо. Но такие люди – в меньшинстве. А простым людям, кто заботится только о насущном, нужен пастырь, тот, кто в любой момент подскажет, успокоит, направит. Для стабилизации общества в духовной сфере, консолидации в идеологической, упорядочении в нравственности и морали, в поддержании власти, обеспечивающей порядок и безопасность – вот в чём необходимость религии.
– Трудно не согласиться, – тяжело выдохнула Лена, видимо, желая закрыть эту серьёзную тему. И, естественным образом, впервые в нашем диалоге наступила длительная пауза.
И только в этот момент я увидел, будто вернувшись в реальность, что начало смеркаться. Вот так, при серьёзном разговоре я всегда настолько концентрируюсь на теме, что не осознаю в полной степени происходящее вокруг, как токующий глухарь. Приближение ночи насторожило ум, заставляя задуматься о ночлеге, потому что конца пути как не просматривалось, так как и не предполагалось. А Лена, вдруг, вернулась к непосредственно насущной теме, видимо поддаваясь приближающимся ночным страхам:
– А если эти алтайцы снова встретят нас, к примеру, в тёмное время? Тогда что – придётся откупаться? – взволнованно спросила она, глянув мне в глаза.
– Ни в коем случае нельзя ничем откупаться, показывая свою слабость! Они из той категории людей, что уважают только силу, силу духа, в первую очередь! Надо смело смотреть хоть в глаза, хоть над головой вымогателя, но без вызова. И не вступать ни в какой диалог, если не владеете их разговорной культурой. Единственное, что нужно сказать в нашем случае – спокойно потребовать пропустить на турбазу «Высотник». Это самый оптимальный и даже спасительный вариант. Они подумают, что мы под защитой этой турбазы. Я думаю, что в глубинах своих душ эти, примитивные для нас, аборигены всё равно имеют, хоть и скрытую, может, от них самих, чистую совесть. К тому же ещё и боятся ответственности перед законом и не преступят черту при молчаливом отпоре. Главное – ни чем не спровоцировать их на агрессию и не выказать страха. Быть самоуверенными и спокойными! Как сказал поэт Евгений Евтушенко: – «…Умейте всем страхам в лицо рассмеяться, лишь собственной трусости надо бояться!».
– Да, надо набираться отваги! – в задумчивости вырвалось у Лены.
Владимир вряд ли слышал и этот наш разговор, всё чаще и больше от нас отставая. А я, за разговорами, ослабил и стремление добраться до цивилизации, и, привычное уже, наблюдение за окружающей природой. Небо всё больше открывалось с расширением распадка, давая нам возможность определять время суток. И совсем не хотелось уже холодных ночёвок под открытым небом, когда ещё не угасло опасение новой порции дождя, потому что небо так и продолжало хмуриться, быстро пронося над нами длинные знамёна узких серых туч. Поэтому мы, в какой-то момент, резко остановились, поняв в замешательстве, что стало быстро темнеть, что на самом деле мы «упёрлись» в ночь. В этот момент мы вышли на открытый простор широкого альпийского луга и встали в раздумьях на опушке леса, теперь оставшегося за спиной. Слева – крутой травяной яр, на который мы вышли, круто «падал» к руслу Кучерлы, шумящей на двести метров ниже нас. Справа – травяной ковёр с небольшим подъёмом уводил за горизонт опустившийся, уже низко, правый склон ущелья. Прямо – вилась сквозь густую низкорослую траву «наша» тропка к лесу, лежащему на горизонте и видневшемуся теперь, в густых сумерках, уже чёрной полосой. И мне подумалось, что уже за этим лесом находится село Кучерла. У наших ног справа налево струился ручей с прозрачной водой, стекая затем в Кучерлу. А правее от тропы рос низкорослый ивовый куст со стелящимися толстыми нижними ветвями. За ним мы обнаружили небольшой штабель двухметровых досок, тщательно обтянутых полиэтиленовой плёнкой от дождя. Видимо, кто-то из местных захотел в этом месте соорудить беседку для привала перед «погружением» путников в чащу леса, и заготовил здесь материал. В ожидании Владимира, мы с Леной неожиданно дружно, впервые после обеда, сняли, не сговариваясь, рюкзаки и утолили жажду вкусной водой из ручья, используя лишь ладони. Даже без слов нам обоим стало понятно, что на сегодня хватит. Вода – под рукой и надо выбирать место для сна.
– Что же, наверное, не стоит нам сегодня приближаться к селу, которое, вероятно, за тем лесом. Лучше со свежими силами завтра, с утра пораньше, проскочим его. А чтобы успеть на автобус, я разбужу в четыре утра, у меня ручные часы, – бодро и твёрдо заявил подошедший Владимир, впервые при мне открыв рот и ещё на подходе снимая с плеч свой рюкзак.
Он уже, видимо, рассчитал время на преодоление расстояния отсюда и до стоянки автобуса, опираясь и на время завтрака, и на свою малую скорость передвижения. На горных маршрутах расстояние измеряется не километрами, а часами перехода.
В девять утра из Тюнгура выходил, в те времена, единственный рейс пассажирского автобуса в столицу Республики Алтай – Горно-Алтайск. И если на него не успеть, то будет задержка на сутки, поэтому всё стало строго теперь, для нас. А задерживаться здесь, в рабочем посёлке, после чистой природы, уже совсем не хотелось, когда есть возможность – с маршрута и сразу в транспорт.
«Вот – достойный мужчина! Если говорит, то лишь по делу» – подумал я, моментально зауважав незнакомого, по сути, спутника. А вслух предложил:
– Давайте используем вон те доски и соорудим из них ложе. Поднимается холодный ветер, и ложиться снова на землю совсем не хочется. На этом высоком яру, как на гольце, – хороший разгуляй всем ветрам.
– Согласен с тобой, Андрей! А есть у тебя верёвка? – воодушевлённо отозвался Владимир.
– Да, сейчас достану, – с готовностью ответил я и полез за ней в свой рюкзак.
Аккуратно достав нужное количество досок из того штабеля, мы с ним вдвоём быстро соорудили настил на нижних ветках куста, закрученных аномальной энергетикой места. Между настилом и землёй получился просвет в полметра, защищающий от сырости почвы. Впервые за полмесяца нам предстояло спать не на земле, а даже на древесном ложе, где едва вместились три наших каремата. А с помощью верёвки, которую ловко и профессионально натянул меж верхними ветвями Владимир, мы соорудили навес, используя мой большой кусок полиэтилена. Защита от ветра и возможного ночного дождя получилась в виде полу-палатки. Владимир так быстро и инициативно работал, что я без сомнения, увидел в этом попытку само-реабилитации, перед Леной, видимо, в конкуренции со мной. У меня это вызвало только уважение.
Хвороста на обозримом пространстве не было видно, а возвращаться в ночной лес для поиска дров с фонарём не хотелось, да и сил на это уже не было. И мы решили обойтись сухим перекусом из остатков сухарей, карамели и кураги, запивая водичкой из ручья. Трясясь от резкого похолодания и дожёвывая остатки снеди, мы стремглав залезли в свои спальники с головой, от озноба, как следствия усталости. Я, по своей привычке, лёг, конечно, с наветренной стороны, защищая ребят от холодного осеннего ветра. Посредине, безусловно, разместили Лену. И, прижавшись плотно боками, на узком помосте, мы быстро уснули, ни разу не проснувшись и не шевелясь до утра. Очнулись почти одновременно от того, что кто-то первым пошевелился. Было уже светло, и я сразу понял, что мы проспали назначенный час.
Садился утренний туман, что предвещало в одном ряду с ночным холодным ветром – солнечную погоду днём. Владимир подтвердил, что уже начало шестого утра, и мы спешно начали собираться. Лена раздала нам остатки такого же сухого пайка, и мы с Владимиром, жуя их на ходу, начали быстро складывать использованные доски обратно в штабель, приводя всё в исходное состояние. Смотав пятидесятиметровую верёвку и полиэтиленовую плёнку, я окончательно убрал их в рюкзак. Затем, попив водички из ручья и наскоро умывшись из него же, я поспешил догонять ребят, даже не отерев задубелое на ледниках лицо. Это было уже привычным, в походах, по-спартански, полотенцами не пользовался. Владимир хромал ещё сильнее прежнего и снова начал отставать от нас с Леной. Не долго думая, она предложила мне:
– Андрей, мы с Володей уже точно не успеем к автобусу, а ты можешь. Зачем тебе привязываться к нам, иди вперёд. А нам придется «загорать» в «Высотнике» до завтра.
– Что ж, тогда счастливо вам добраться до дома! – попрощался я с ними, в душе благодаря Лену за логичную инициативу. И это освобождение горячей кровью растеклось по всему телу, готовому взлететь, за недостатком сил на бег.
– А тебе успеть на автобус! – пожелала мне Лена. Владимир же, тем временем, опустив лицо долу, молча хромал в полусотнях шагов позади, не подняв и головы на прощание.
Номер телефона Лены я записал (для контакта в альпинистской сфере своих интересов) ещё предыдущим днём и теперь устремился в максимально возможном темпе, ни разу не оглянувшись. Душа рвалась, ум торопил: – «Давай быстрее, времени очень мало!» А усталые ноги уже не хотели двигаться, и со всей силы воли их приходилось выбрасывать, по-очереди, вперёд. Опустившуюся сырую туманность быстро разогнал, поднявшийся было, утренний ветерок, на том и стихнув, до штиля. Теперь же, снизу, от реки, стал подниматься непроглядно густой туман, который вскоре окутал меня, когда я спустился к Кучерле, позволяя видеть лишь на три шага вперёд. Тропа, вскоре, раздвоилась и я выбрал проезжую, в две колеи, полагая её более надёжной. Места же мне были ещё не знакомы. А дорога случилась путём на покосы и, петляя вдоль русла реки Кучерлы, провела меня через три бревенчатых моста над потоком, стремительно несущим, со скоростью тысячи кубометров в секунду, монолитно-бирюзовую тягучую воду. Таким образом, я трижды перешёл с одного берега на другой и понял, что ошибся, встав на проезжую дорогу, и потеряв не менее получаса драгоценного, теперь, времени. Надо было идти узкой конной. Лошадь не дура, торит короткий путь.