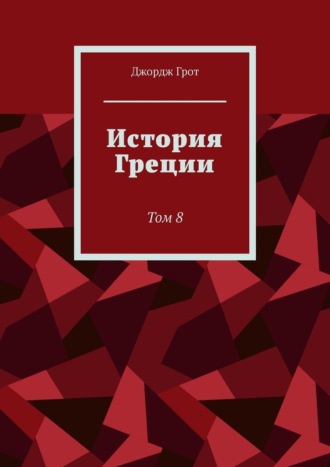
Полная версия
История Греции. Том 8
Узнав, что он прошел мимо Пирея, не совершив никакого нападения, афиняне с облегчением поняли, что теперь его целью должна быть Эвбея, которая была для них едва ли менее важна, чем Пирей, поскольку основные запасы они получали с этого острова. Поэтому они сразу же вышли в море со всеми триремами, которые только можно было укомплектовать и подготовить в гавани. Но из-за спешки, недоверия и разногласий, царивших в данный момент, а также отсутствия на Самосе большого военного флота, экипажи были сырыми и плохо подобранными, а вооружение – неэффективным. На борту находился Полистрат, один из членов Четырехсот, а возможно, и другие; люди, которые были заинтересованы скорее в поражении, чем в победе. 95] Тимохарес, [p. 72] адмирал, провел их вокруг мыса Суний в Эретрию в Эвбее, где он нашел еще несколько трирем, которые составили весь его флот в тридцать шесть парусов.
Едва он достиг гавани и высадился, как, не дав своим людям времени подкрепиться, был вынужден вступить в бой с сорока двумя кораблями Агесандрида, который только что отплыл из Оропа и уже подходил к гавани. Эта неожиданность была вызвана антиафинской партией в Эретрии, которая по прибытии Тимохареса позаботилась о том, чтобы на рынке не оказалось провизии, и его люди были вынуждены разойтись и добывать ее в домах на окраине города; В то же время был поднят сигнал, видимый в Оропусе на противоположной стороне пролива шириной менее семи миль, который указывал Агесандриду точный момент для приведения его флота в атаку со свежими после утренней трапезы экипажами. Тимохарес, увидев приближение врага, приказал своим людям подняться на борт, но, к его разочарованию, многие из них оказались так далеко, что не смогли вернуться вовремя, и он был вынужден отплыть и встретить пелопоннесцев с кораблями, очень плохо укомплектованными. В сражении, произошедшем неподалеку от эретрийской гавани, он после короткого поединка потерпел полное поражение, а его флот был отброшен к берегу. Некоторые из его кораблей спаслись в Халкисе, другие – в укрепленном пункте, гарнизонированном самими афинянами, недалеко от Эретрии; однако не менее двадцати двух трирем из тридцати шести попали в руки Агесандрида, а большая часть экипажей была убита или взята в плен. Из тех моряков, которым удалось спастись, многие нашли свою смерть от рук эретрийцев, в город которых они бежали в поисках убежища. При известии об этом сражении не только Эретрия, но и вся Эвбея, за исключением Орея на севере острова, который был заселен афинскими клерухами, объявила о своем восстании из Афин, которое было намечено более года назад, и приняла меры для обороны совместно с Агесандридом и беотийцами. [96] [p. 73]
Разве могла Афина вынести бедствие, само по себе столь огромное и усугубленное нынешним бедственным положением города? Её последний флот был уничтожен, её ближайший и драгоценнейший остров оторван от неё – остров, который в последнее время давал ей больше, чем сама Аттика, но теперь должен был стать враждебным и агрессивным соседом. [97] Предыдущее восстание Эвбеи, произошедшее тридцать четыре года назад, в период наивысшего могущества Афин, даже тогда стало страшным ударом и вынудило их пойти на унизительное Тридцатилетнее перемирие. Но теперь, когда остров снова восстал, у Афин не только не было средств для его возвращения, но даже для защиты Пирея от блокады вражеским флотом. Ужас и отчаяние, вызванные этой новостью, были беспредельны, превосходя даже чувства после сицилийской катастрофы или восстания Хиоса. Не было и второго резерва в казне, подобного тысяче талантов, столь существенно помогших в прошлый раз.
Кроме внешних угроз, афинян давили два внутренних бедствия, каждое из которых само по ебе было почти невыносимым: отчуждение их собственного флота на Самосе и не утихший ещё раздор внутри стен города, где Четыреста всё ещё временно удерживали власть, возглавляемые самыми способными и беспринципными лидерами. В глубине отчаяния афиняне ожидали лишь одного – увидеть победоносный флот Агесандрида (более шестидесяти триер, включая недавно захваченные) у Пирея, перекрывающий все поставки и грозящий голодом в сочетании с действиями Агиса и Декелеи.
Захват был бы лёгким, ведь не было ни кораблей, ни моряков для отражения атаки. Его прибытие в этот критический момент, скорее всего, позволило бы Четырёмстам вернуть власть и ввести в город лакедемонский гарнизон. [98] И хотя прибытие афинского флота с Самоса предотвратило бы худшее, он не успел бы вовремя, если бы не затяжная блокада. Более того, его уход с Самоса в Афины оставил бы Ионию и Геллеспонт беззащитными перед лакедемонцами и персами, что привело бы к потере всей афинской империи.
Ничто не смогло бы спасти Афины, если бы лакедемонцы проявили хоть какую-то энергию вместо того, чтобы ограничиться Эвбеей, уже лёгкой и верной добычей. Как и в прошлый раз, когда Антифон и Фриних отправились в Спарту, готовые на любые жертвы ради получения помощи, так и теперь, в ещё большей степени, Афины были спасены лишь тем, что их враги оказались вялыми и тупыми спартанцами, а не предприимчивыми сиракузянами под руководством Гилиппа. [99] И это второй случай, добавим, когда Афины оказались на краю гибели из-за политики Алкивиада, удерживавшего флот на Самосе.
К счастью для афинян, Агесандрид так и не появился у Пирея, так что двадцать триер, которые они с трудом укомплектовали для обороны, не встретили врага. [100] Таким образом, афиняне получили передышку, позволившую им частично оправиться от потрясения и внутренних раздоров.
Первым их шагом, когда вражеский флот не появился, стал созыв народного собрания – причём именно на Пниксе, традиционном месте демократических собраний, способном вдохнуть новую жизнь в патриотизм, четыре месяца подавляемый и тлевший в углях. На этом собрании мнения резко обернулись против Четырёхсот: [101] даже те, кто, подобно Совету старейшин (пробалам), изначально поддержал их назначение, теперь присоединились к общему осуждению, несмотря на язвительные упрёки олигархического лидера Писандра в непоследовательности.
Были приняты следующие решения:
1. Отстранить Четыреста от власти.
2. Передать всё управление Пяти тысячам.
3. Каждый гражданин, снарядивший себя или другого полным вооружением (паноплией), автоматически включался в число Пяти тысяч.
4. Ни один гражданин не должен получать плату за исполнение политических функций под угрозой проклятия (атаки). [102]
Таковы были решения первого собрания на Пниксе. Были восстановлены архонты, Совет пятисот и другие институты, после чего прошли ещё несколько собраний, на которых были назначены номотеты, дикасты и другие ключевые элементы демократической системы. Были приняты и другие постановления, в частности – по предложению Крития, поддержанному Фераменом, [103] – о возвращении из изгнания Алкивиада и некоторых его сторонников. Кроме того, были отправлены послания к нему и к флоту на Самосе, подтверждавшие недавние назначения стратегов, извещавшие о событиях в Афинах и призывавшие к продолжению борьбы с общим врагом.
Фукидид высоко оценивает дух умеренности и патриотического единства, царивший тогда в Афинах и направлявший действия народа. [104] Однако он не поддерживает мнения (как иногда ошибочно считают), да и факты не подтверждают, что тогда была введена новая конституция. Покончив с олигархией и правлением Четырёхсот, афиняне вернулись к старой демократии, [p. 78] лишь с двумя изменениями: ограничением избирательных прав и отменой оплаты политических должностей.
Обвинение против Антифона, рассмотренное вскоре после этого, разбиралось советом и дикастерией в полном соответствии со старыми демократическими процедурами. Однако можно предположить, что совет, дикасты, номотеты, экклесиасты (граждане, посещавшие собрания), а также ораторы, выступавшие в судах, временно работали без оплаты.
Более того, два упомянутых изменения почти не повлияли на реальность. Эксклюзивный корпус Пяти тысяч, формально созданный в тот момент, не был ни точно определён, ни долго сохранён. Даже тогда он существовал скорее номинально: это было скорее символическое число, чем реальный список, включавший на самом деле больше имён, чем указано, и без чётких границ. Сам факт, что любой, снарядивший паноплию, автоматически включался в Пять тысяч (и не только они), [105] показывает, что точное число не соблюдалось.
Если верить речи, приписываемой Лисию, [106] сами Четыреста, после разрушения их крепости в Этионее и потери власти, создали комиссию для составления реального списка Пяти тысяч. Один из её членов, Полистрат, хвастался перед новой демократией, что включил в список девять тысяч вместо пяти. Но даже если этот список и существовал, он никогда не был опубликован или принят. Это лишь подтверждает, что число «Пять тысяч» стало условным обозначением широкого, но не всеобщего избирательного права.
Сначала это число было придумано Антифоном и лидерами Четырёхсот, чтобы прикрыть узурпацию и запугать демократов. Затем Ферамен и меньшинство олигархов использовали его как основу для внутренней оппозиции. Наконец, демократы воспользовались им как компромиссом для возврата к старому строю с минимальными спорами, ведь Алкивиад и флот согласились на Пять тысяч и отмену оплаты должностей. [107]
Но исключительное избирательное право так называемых Пяти тысяч, особенно с принятой теперь расширенной численной конструкцией, имело мало ценности как для них самих, так и для государства; [108] в то же время оно стало оскорбительным ударом для чувств исключенного множества, особенно для храбрых и активных моряков, таких как паралии. Хотя это и было благоразумным шагом временного перехода, оно не могло устоять, и никаких попыток сохранить его на постоянной основе не предпринималось в обществе, так долго привыкшем к всеобщему гражданству, и где необходимость защиты от врага требовала энергичных усилий от всех граждан.
Даже что касается бесплатных функций, сами члены Пяти тысяч вскоре устали бы, не меньше, чем бедные свободные граждане, служить без оплаты в качестве советников или в других ролях; так что только абсолютный финансовый дефицит мог бы предотвратить восстановление, полное или частичное, оплаты. [109] И этот дефицит никогда не был настолько полным, чтобы прекратить выплату [стр. 80] диобелии, или раздачи двух оболов каждому гражданину по случаю различных религиозных праздников. Такая раздача продолжалась без перерыва; хотя, возможно, количество случаев, когда она производилась, могло сократиться.
Насколько или при каких ограничениях какое-либо восстановление гражданской оплаты получило распространение в течение семи лет между Четырьмястами и Тридцатью, мы сказать не можем. Но, оставляя этот вопрос нерешенным, мы можем показать, что в течение года после свержения Четырехсот избирательное право так называемых Пяти тысяч расширилось до избирательного права всех афинян без исключения, или до полной прежней демократии. Знаменательный декрет, принятый примерно через одиннадцать месяцев после этого события – в начале архонтства Глаукиппа (июнь 410 г. до н.э.), когда совет Пятисот, дикасты и другие гражданские должностные лица были обновлены на предстоящий год в соответствии с древней демократической практикой, – показывает нам полную демократию не только в действии, но и во всем пылу чувств, вызванных недавним восстановлением. Казалось, что это первое обновление архонтов и других должностных лиц при возрожденной демократии должно быть отмечено каким-то выразительным провозглашением чувств, аналогичным торжественной и волнующей клятве, принятой в предыдущем году на Самосе. Соответственно, Демофант предложил и провел (псефизм или) декрет, [110] предписывающий форму клятвы, которую должны были принять все афиняне, чтобы поддерживать демократическую конституцию.
Условия его псефизма и клятвы поразительны. «Если кто-либо свергнет демократию в Афинах или займет какую-либо должность после того, как демократия будет свергнута, он будет врагом афинян. Пусть он будет убит безнаказанно, и пусть его имущество будет конфисковано в пользу общества, с сохранением десятой части для Афины. Пусть человек, который убил его, и соучастник, знавший об этом, будут считаться святыми и благочестивыми [стр. 81] в религиозном смысле. Пусть все афиняне принесут клятву при жертвоприношении взрослых животных в своих филах и демах, чтобы убить его. [111] Пусть клятва будет следующей: «Я убью своей собственной рукой, если смогу, любого, кто свергнет демократию в Афинах, или кто займет какую-либо должность в будущем после свержения демократии, или поднимет оружие с целью стать тираном, или поможет тирану утвердиться. И если кто-либо другой убьет его, я буду считать убийцу святым как в отношении богов, так и демонов, как убившего врага афинян. И я обязуюсь словом, делом и голосованием продать его имущество и передать половину выручки убийце, ничего не утаивая. Если кто-либо погибнет, убивая или пытаясь убить тирана, я буду добр к нему и к его детям, как к Гармодию и Аристогитону, и их потомкам. И я hereby разрываю и отрекаюсь от всех клятв, которые были даны против афинского народа, будь то в Афинах, в лагере (на Самосе) или где-либо еще. [112] “ Пусть все афиняне принесут эту клятву как обычную, непосредственно перед праздником Дионисий, с жертвоприношением и взрослыми животными; [113] призывая на того, кто соблюдает ее, обильные блага; но на того, кто нарушает ее, – гибель для него самого и его семьи».
Таков был примечательный декрет, который афиняне не только приняли в совете и народном собрании менее чем через год после свержения Четырехсот, но и приказали выгравировать на колонне у дверей здания совета. Он ясно указывает не только на возвращение демократии, но и на необычайную интенсивность демократических чувств, сопровождавших это возвращение. Конституция, которую все афиняне так клялись защищать самыми решительными мерами, должна была быть конституцией, в которой все афиняне имели политические права, а не конституцией пяти тысяч привилегированных лиц, исключающих остальных. [114] Этот декрет утратил силу после изгнания Тридцати, в связи с общим решением, принятым тогда, не действовать в соответствии с любыми законами, принятыми до архонтства Евклида, если они не были специально восстановлены. Но колонна, на которой он был выгравирован, осталась, и слова на ней читались, по крайней мере, до времен оратора Ликурга, восемьдесят лет спустя. [115]
Однако само свержение Четырехсот и передача политической власти Пяти тысячам, произошедшие на первом народном собрании после поражения у Эретрии, были достаточны, чтобы заставить большинство жестоких лидеров Четырехсот немедленно покинуть Афины. Писандр, Алексикл и другие тайно отправились в Декелею: [116] только Аристарх использовал свой побег как средство нанесения новой раны своей стране. Будучи одним из стратегов, он воспользовался этой властью, чтобы выступить – с некоторыми из самых грубых среди тех скифских лучников, которые выполняли полицейские обязанности в городе – к Эное на беотийской границе, которая в тот момент находилась в осаде объединенными силами коринфян и беотийцев. Аристарх, действуя в согласии с осаждающими, предстал перед гарнизоном и сообщил им, что Афины и Спарта только что заключили мир, одним из условий которого была сдача Эное беотийцам. Поэтому он, как стратег, приказал им покинуть место под прикрытием перемирия, чтобы вернуться домой. Гарнизон, будучи плотно блокированным и полностью не осведомленным о реальной политической ситуации, безоговорочно подчинился приказу; таким образом, беотийцы получили этот очень важный пограничный пункт, новую занозу в боку Афин, помимо Декелеи. [117]
Таким образом, афинская демократия была восстановлена вновь, а разрыв между городом и войском на Самосе прекратился после перерыва примерно в четыре месяца из-за успешного заговора Четырехсот. Лишь чудом – или, скорее, благодаря невероятной медлительности и глупости ее иностранных врагов – Афины остались живы после этого гнусного нападения со стороны их собственных самых способных и богатых граждан. То, что победившая демократия осудила и наказала главных действующих лиц, участвовавших в этом, – которые насытили свою собственную эгоистичную амбицию ценой стольких страданий, тревог и опасностей для своей страны, – было не чем иным, как строгой справедливостью. Но обстоятельства дела были своеобразными: контрреволюция была осуществлена отчасти с помощью меньшинства среди самих Четырехсот – Ферамена, Аристократа и других, вместе с Советом старейшин, называемых Пробами, – все из которых были вначале либо главными действующими лицами, либо [стр. 84] соучастниками в той системе террора и убийств, посредством которой демократия была свергнута, а олигархические правители утвердились в здании совета. Поэтому более ранние операции заговора, хотя и являвшиеся одними из его худших черт, не могли быть подвергнуты расследованию и суду без компрометации этих сторон как соучастников преступления. Ферамен избежал этой трудности, выбрав для осуждения недавний акт большинства Четырехсот, которому он и его сторонники противились, и в отношении которого у него, следовательно, не было интересов, противоречащих ни справедливости, ни народным чувствам. Он выступил вперед, чтобы обвинить последнее посольство, отправленное Четырьмястами в Спарту, отправленное с инструкциями купить мир и союз почти любой ценой и связанное со строительством форта у Этионеи для приема вражеского гарнизона. Этот акт явной измены, в котором участвовали Антифонт, Фриних и десять других известных послов, был выбран в качестве особого предмета для публичного суда и наказания, как по общественным причинам, так и с целью его собственного благоволения в возобновленной демократии. Но тот факт, что именно Ферамен таким образом предал своих старых друзей и соучастников, после того как отдал руку и сердце их более ранним и не менее виновным деяниям, долго помнился как вероломное предательство и использовался впоследствии как оправдание чудовищной несправедливости по отношению к нему самому. [118]
Из двенадцати послов, отправившихся с этой миссией, все, кроме Фриниха, Антифонта, Архептолема и Ономакла, по-видимому, уже успели бежать в Декелею или другие места. Фриних, как я упоминал несколькими страницами ранее, был убит за несколько дней до этого. В память о нём восстановленный совет Пятисот уже вынес справедливый обвинительный приговор, постановив конфисковать его имущество и снести его дом до основания, а также даровать гражданство вместе с денежной наградой двум иностранцам, [стр. 85] заявившим, что это они убили его. [119] Остальные трое – Антифонт, Архептолем и Ономакл [120] – были названы перед советом стратегами (среди которых, вероятно, был и Ферамен) как лица, отправившиеся с миссией в Спарту во вред Афинам, частично на вражеском корабле, частично через спартанский гарнизон в Декелее. На основании этого заявления (несомненно, подробного документа) один из членов совета по имени Андрон предложил следующее: чтобы стратеги вместе с десятью избранными ими советниками арестовали трёх обвиняемых и содержали их под стражей до суда; чтобы фесмофеты официально вызвали каждого из троих для подготовки к суду перед дикастерием по обвинению в государственной измене в назначенный день, а также обеспечили их присутствие на суде при поддержке стратегов, десяти избранных советников и любого гражданина, пожелавшего выступить обвинителем. Каждый из троих должен был судиться отдельно, и в случае осуждения [стр. 86] подлежал наказанию согласно уголовному закону города за измену или предательство. [121]
Хотя все трое названных лиц находились в Афинах (или, по крайней мере, предполагалось, что они там) в день принятия этого постановления советом, к моменту его исполнения Ономакл успел бежать, так что под арест попали только Антифонт и Архептолем. У них, несомненно, была возможность покинуть город, и можно предположить, что Антифонт счёл бы отъезд столь же необходимым, как Писандар и Алексикл. Будучи человеком проницательным и никогда не пользовавшимся особой популярностью, он должен был понимать, что теперь, по крайней мере, он обнажил меч против сограждан так, что прощения ему не будет. Тем не менее, он добровольно остался. И этот человек, отдававший приказы о тайных убийствах многих демократических ораторов, получил от победившей демократии официальное уведомление и справедливый суд по конкретному обвинению. Речь, которую он произнёс в свою защиту, хоть и не привела к оправданию, была выслушана не просто терпеливо, но с восхищением – о чём можно судить по сильному и долговременному впечатлению, которое она произвела. Фукидид называет её самым блистательным защитительным словом по делу, грозившему смертной казнью, которое он когда-либо слышал; [122] а поэт Агафон, несомненно присутствовавший на суде, горячо похвалил Антифонта за его красноречие. На что последний ответил, что одобрение одного такого проницательного судьи для него – достаточная компенсация за недружелюбный вердикт толпы. И он, и Архептолем были признаны дикастерием виновными и приговорены к наказанию за измену. Их передали магистратам, именовавшимся Одиннадцатью (главным органам исполнительной власти в Афинах), для казни обычным способом – через принятие яда цикуты. Их [стр. 87] имущество было конфисковано, дома приказано снести, а на пустующих местах установить столбы с надписью: «Жилище предателя Антифонта – предателя Архептолема». Им также запрещалось погребение как в Аттике, так и на любой территории, подконтрольной Афинам. [123] Их дети, как законные, так и незаконнорождённые, лишались гражданства, а любой гражданин, усыновивший потомка любого из них, подлежал такому же лишению.
Таков был приговор дикастерия, вынесенный в соответствии с афинским законом об измене. Его предписывалось выгравировать на той же бронзовой колонне, что и почетный декрет об убийцах Фриниха. С этой колонны он был скопирован и таким образом вошёл в историю. [124] [стр. 88]
То, сколько именно из Четырёхсот олигархов предстали перед судом или были наказаны, нам неизвестно, но есть основания полагать, что казнены были только Антифонт и Архептолем, а возможно, также Аристарх, предавший Эною беотийцам. Последний, как утверждается, был официально осуждён: [125] однако каким образом он снова оказался в руках афинян после побега, нам не сообщается. Имущество Писандра (сам он бежал) было конфисковано и полностью или частично передано в награду Аполлодору, одному из убийц Фриниха. [126] Вероятно, собственность других видных беглых олигархов также подверглась конфискации. Ещё один член Четырёхсот, Полистрат, присоединившийся к ним незадолго до их падения, был судим заочно (его защитники позже объяснили его отсутствие ранением, полученным в морском сражении при Эретрии) и приговорён к крупному штрафу. Похоже, каждый из Четырёхсот должен был пройти проверку и отчётность, как это было принято в Афинах для magistrates, покидающих должность. Те из них, кто не явился на суд, приговаривались к штрафу, изгнанию или занесению имени в списки предателей. Однако большинство явившихся были оправданы – отчасти, как сообщается, благодаря взяткам логistам (проверяющим magistrates), хотя некоторые были осуждены либо к штрафу, либо к частичному лишению политических прав, как и те гоплиты, которые наиболее активно поддерживали Четырёхсот. [127] [стр. 89]
Как бы нечетко мы ни представляли себе конкретные действия афинского народа при восстановлении демократии, мы знаем от Фукидида, что его благоразумие и умеренность были образцовыми. Восхваление, которое он в столь резких выражениях дает их поведению в этот момент, действительно вдвойне примечательно: во-первых, потому что оно исходит от изгнанника, не дружественного демократии, и сильного поклонника Антифона; во-вторых, потому что сам момент был крайне тяжелым для народной морали и мог выродиться, по почти естественной тенденции, в избыток реакционной мести и преследований. Демократии было уже сто лет, начиная с Клейстенеса, и пятьдесят лет, даже начиная с последних реформ Эфиальтеса и Перикла; так что самоуправление и политическое равенство были частью привычного чувства в груди каждого человека, усиленного в данном случае тем, что Афины были не просто демократией, но имперской демократией, имевшей зависимость за границей [129].
В тот момент, когда, вследствие беспримерных бедствий, она едва в состоянии поддерживать борьбу с внешними врагами, небольшой узел ее собственных богатейших граждан, пользуясь ее слабостью, ухитряется путем обмана и силы, не менее вопиющих, чем искусное сочетание, сосредоточить в своих руках государственную власть и вырвать у своих соотечественников защиту от дурного правления, чувство равного гражданства и давно установленную свободу слова. И это еще не все: эти заговорщики не только насаждают олигархический суверенитет в сенате, но и поддерживают его, приглашая извне иностранный гарнизон и предавая Афины пелопоннесским врагам. Двух более смертоносных повреждений невозможно представить; и ни от одного из них Афины не избежали бы, если бы их внешний враг проявил разумную расторопность. Принимая во внимание огромную опасность, не слишком удачное спасение и тяжелое состояние, в котором оказались Афины, несмотря на свое спасение, мы вполне могли ожидать в народе реакционной враждебности, которую каждый спокойный наблюдатель, учитывая провокацию, тем не менее должен был осудить; и, возможно, в какой-то степени аналогичной тому отчаянию, которое при очень похожих обстоятельствах вызвало кровавую резню в Коркире [130]. И когда мы видим, что именно этот случай Фукидид, наблюдатель не слишком беспристрастный, выбирает для восхваления их хорошего поведения и умеренности, мы глубоко осознаем, какие хорошие привычки, должно быть, заложила в них прежняя демократия, служили теперь корректором импульсов текущего момента. Они познакомились с цементирующей силой общих чувств; они научились свято хранить нерушимость закона и справедливости даже в отношении своего злейшего врага; и, что не менее важно, частота и свобода политических дискуссий научили их не только заменять споры языка спорами меча, но и осмысливать свое положение с его настоящими и будущими обязательствами, вместо того чтобы спешить со слепой ретроспективной местью за прошлое.




