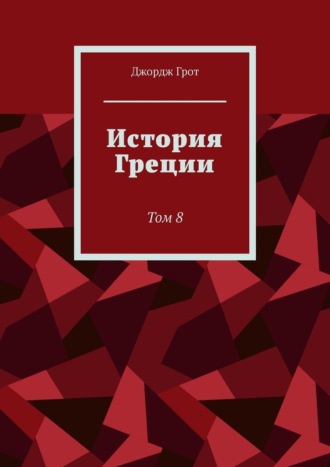
Полная версия
История Греции. Том 8
Эта речь Фрасилла и Фрасибула вдохновила войско, подняв дух, достойный их предков, бежавших на Саламин при Ксерксе. Желание вернуть демократию и победить пелопоннесцев слилось в едином порыве, сметая даже сопротивление меньшинства, склонного к олигархии. Но был и третий импульс – возвращение Алкивиада, человека полезного, но привносящего дух эгоизма и лжи, чуждый возвышенным чувствам, царившим на Самосе. [61]
Этот изгнанник первым начал олигархический заговор, ослабивший Афины в разгар войны и едва не погубивший их, если бы не внезапный подъём духа на Самосе. Обманув заговорщиков перспективой персидской помощи, он затем порвал с ними, когда пришло время исполнять обещания, но сделал это так, что иллюзия его влияния сохранилась. Теперь, когда возвращение через олигархию стало невозможным, он стал её врагом, отбросив месть демократии за изгнание. Как верно сказал о нём Фриних, [62] он использовал любую сторону для своих целей.
Узнав о событиях на Самосе, Алкивиад связался с Фрасибулом и демократами, повторив те же обещания персидской помощи в обмен на своё возвращение – но уже без требования отмены демократии. Фрасибул и другие либо поверили ему, либо решили, что даже призрачный шанс на персидский союз стоит попытки. Это могло поднять дух солдат, а возвращение Алкивиада теперь не требовало отказа от демократии.
Однако лишь после долгих дебатов [64] Фрасибул убедил войско проголосовать за безопасность и возвращение Алкивиада. Как афинские граждане, солдаты не хотели отменять приговор, вынесенный демократическим судом за нечестие и измену. Но голосование прошло, Фрасибул привёз Алкивиада на Самос, и тот предстал перед собранием. Гибкий изгнанник, яростно клеймивший демократию в Спарте и в переписке с олигархами, теперь идеально подстроился под настроение демократического войска. Он начал с сожаления о своём изгнании, виня в нём не несправедливость сограждан, а свою злую судьбу. [65] Затем перешёл к текущим делам, уверенно пообещав персидский союз и раздувая своё влияние на Тиссаферна. Сатрап, утверждал он, пообещал не оставить афинян без жалования, даже если придётся потратить последнюю дарику или переплавить серебряный трон. Единственное условие – возвращение Алкивиада как гаранта. Более того, он приведёт финикийский флот из Аспенда вместо того, чтобы отдать его пелопоннесцам.
Если в переговорах с Писандром Алкивиад требовал отмены демократии для доверия царя, теперь это условие исчезло. Но несмотря на новую ложь и смену позиции, его речь имела успех. Она устрашала олигархов, возвышала его в глазах войска и сеяла раздор между спартанцами и Тиссаферном. Слушатели, охваченные жаждой свергнуть Четырёхсот и победить пелопоннесцев, не стали вникать в детали. В порыве энтузиазма они избрали его стратегом наряду с Фрасибулом, укрепив надежды на победу.
Однако, обольщённые перспективой персидской помощи, многие заговорили о походе на Пирей для спасения Афин. Алкивиад, зная, что его обещания – обман, решительно отговорил их, указав, что это оставит Ионию без защиты. После собрания он снова отправился к Тиссаферну – якобы для выполнения договорённостей.
Фактически освобождённый от изгнания, Алкивиад начал новую игру. Сначала он играл за Афины против Спарты, затем за Спарту против Афин, потом за Тиссаферна против обоих, а теперь снова за Афины. Но на деле он всегда играл только за себя. Теперь он стремился создать видимость близости с Тиссаферном, чтобы впечатлить афинян, повысить свою значимость в глазах персов и посеять раздор между ними и пелопоннесцами. В этой тройной игре он преуспел, особенно в последнем. [66]
Вскоре после его возвращения на Самос прибыли десять послов от Четырёхсот, задержавшиеся из-за страха перед реакцией на рассказ Хэрея. [67] Их едва выслушали – толпа требовала смерти «убийц демократии». Когда наступила тишина, послы заявили, что переворот был ради спасения города и экономии средств, что Четыреста не предатели (иначе сдали бы Афины Агису), что полноправных граждан теперь Пять тысяч, а не Четыреста, и что слухи о репрессиях – ложь. [69]
Но их оправдания не смягчили войско. Гнев и страх перед олигархами были так сильны, что снова заговорили о походе на Пирей. Алкивиад, уже однажды отвергший эту идею, снова выступил против. Лишь его авторитет, поддержанный Фрасибулом, предотвратил роковой шаг. [70] Затем он ответил послам от имени войска: «Мы не против Пяти тысяч, но Четыреста должны уйти, вернув Совет Пятисот. Мы благодарны за экономию, но главное – не сдаваться врагу. Если город устоит, мы помиримся. Если погибнет одна из сторон – другой не с кем будет мириться». [71]
С этим ответом он отпустил послов; флот, нехотя, отказался от своего желания плыть к Афинам. Фукидид особо подчеркивает огромную услугу, которую тогда Алквиад оказал своей родине, предотвратив план, который оставил бы всю Ионию и Геллеспонт беззащитными перед пелопоннесцами. Его совет, несомненно, оказался удачным в итоге; однако если мы рассмотрим ситуацию на тот момент, когда он его дал, то усомнимся, не противоречил ли он все же расчетам благоразумия и не был ли импульс флота более оправдан. Ибо что мешало Четырёмстам заключить мир со Спартой и ввести в Афины лакедемонский гарнизон, чтобы удержать свою власть? Даже без амбиций это был их лучший, если не единственный, шанс на спасение; и вскоре мы увидим, что они попытались это сделать, но потерпели неудачу отчасти из-за мятежа, поднявшегося против них в Афинах, но в основном из-за глупости самих лакедемонян. Алквиад не мог всерьёз полагать, что Четыреста подчинятся его ультиматуму, переданному через послов, и добровольно откажутся от власти. Но если они оставались хозяевами Афин, кто мог предсказать их действия – особенно после этого объявления враждебности с Самоса – не только в отношении внешнего врага, но и в отношении родственников отсутствующих солдат? Если мы посмотрим как на законные опасения солдат, неизбежные, пока их родные были в такой опасности и почти парализующие их рвение в войне за границей из-за полной неопределённости насчёт дел дома, – так и на риск непоправимой общественной катастрофы, даже большей, чем потеря Ионии, – предательства Афин врагу, – мы склонимся к выводу, что порыв флота был не только естественен, но и основывался на более трезвой оценке реальных шансов, и что Алквиаду просто повезло в рискованной авантюре. А если вместо реальных шансов мы рассмотрим те, которые Алквиад изобразил и на которые флот поверил по его авторитету – а именно, что финикийский флот был уже близок, чтобы действовать против лакедемонян в Ионии, – мы ещё больше проникнемся сочувствием к их стремлению вернуться для защиты. Алквиад имел преимущество перед всеми остальными просто потому, что знал о своей лжи.
На том же собрании появились послы из Аргоса, предложившие признание и помощь афинскому Демосу на Самосе. Они прибыли на афинской триере, управляемой паралами, которые доставили Хэрея на паралии с Самоса в Афины, а затем были переведены на обычное военное судно и отправлены крейсировать у Эвбеи. Однако позже им было приказано доставить Лесподия, Аристофонта и Мелесия [72] как послов Четырёхсот в Спарту. Но при переходе через Арголидский залив, вероятно следуя приказу высадиться в Прасиях, они восстали против олигархии, отплыли в Аргос и там сдали трёх послов, активно участвовавших в заговоре Четырёхсот, в качестве пленников. Перед отплытием на Самос они по просьбе аргивян взяли с собой их послов, которых Алквиад отпустил с благодарностью и надеждой, что их помощь будет готова, когда потребуется.
Тем временем послы вернулись с Самоса в Афины, привезя Четырёмстам неприятную весть о полном провале их миссии у флота. Незадолго до этого, как выяснилось, некоторые триерархи, служившие у Геллеспонта, – Эратосфен, Ятрокл и другие, – также вернулись в Афины; они пытались направить свою эскадру на поддержку олигархического заговора, но были остановлены и изгнаны непреклонной демократией своих же моряков [73]. Если в Афинах расчёты этих [стр. 57] заговорщиков превзошли все ожидания, то везде else они полностью провалились – не только на Самосе и во флоте, но и среди союзных городов. Когда Писандр покинул Самос для завершения олигархического переворота даже без Алквиада, он и другие объехали многие подвластные города и произвели там аналогичные перевороты в надежде привязать их к новой афинской олигархии. Но эти ожидания, как предсказывал Фриних, нигде не оправдались. Новые олигархии лишь сильнее захотели полной автономии, чем прежние демократии. Особенно на Фасосе изгнанники, долгое время жившие на Пелопоннесе, были возвращены, и начались активные приготовления к восстанию – строились новые укрепления и триеры [74]. Вместо усиления контроля над морской империей Четыреста лишь ослабили его, а открытая враждебность флота на Самосе не только разрушила их надежды за границей, но и сделала их положение дома крайне шатким.
С того момента, как сообщники Антифонта узнали от прибывшего Хэрея о провозглашении демократии на Самосе, среди них самих начались раздоры, недоверие и тревога, а также убеждение, что олигархия удержится только с помощью пелопоннесского гарнизона в Афинах. Пока Антифонт и Фриних, главные руководители большинства Четырёхсот, отправляли послов в Спарту для заключения мира (эти послы так и не доехали, будучи схвачены паралами и отправлены пленниками в Аргос, как уже упоминалось) и строили особый форт у Этионеи – выступающей дамбы, сужавшей и контролировавшей с северной стороны узкий вход в Пирей, – внутри самих Четырёхсот возникла оппозиционная меньшинственная группа, притворявшаяся сторонниками народа, среди которой выделялись Терамен и Аристократ [75].
Хотя эти люди активно участвовали в заговоре с самого начала, теперь они горько разочаровались в результате. Лично их влияние среди коллег уступало влиянию Писандра, Каллесхра, Фриниха и других; а коллективная власть Четырёхсот сильно обесценилась из-за потери империи и отчуждения самосского флота, что лишь увеличило её опасность. Теперь среди успешных заговорщиков начались раздоры: каждый вступил в заговор с безграничными личными амбициями, рассчитывая сразу занять первое место в новом олигархическом органе. В демократии, замечает Фукидид, борьба за власть вызывает у проигравших меньше острой неприязни и чувства несправедливости, чем в олигархии, ибо неудачники легче мирятся с неблагоприятным решением большой разнородной массы неизвестных граждан, но злятся, когда их оттесняют несколько известных товарищей, их же соперников и равных. Более того, в момент, когда олигархия честолюбцев только что возвысилась на руинах демократии, каждый заговорщик преувеличенно ожидает своего возвышения; каждый считает себя вправе сразу стать первым в этом органе и недоволен, если его просто ставят наравне с остальными [76]. [стр. 59]
Таковы были чувства разочарованного честолюбия, смешанные с унынием, которые возникли среди меньшинства Четырёхсот сразу после известия о провозглашении демократии на Самосе. Терамен, лидер этого меньшинства, – человек острого честолюбия, умный, но непостоянный и вероломный, не менее готовый предать свою партию, чем свою страну, хотя и менее склонный к крайним злодеяниям, чем многие его олигархические товарищи, – начал искать предлог, чтобы отмежеваться от рискованного предприятия. Воспользовавшись иллюзией, которую сами Четыреста поддерживали насчёт фиктивных Пяти тысяч, он настаивал, что, поскольку опасности для новой власти оказались серьёзнее, чем ожидалось, необходимо популяризировать партию, превратив этих Пять тысяч из вымышленных в реальных [77]. Эта оппозиция, и без того опасная, стала ещё смелее и отчётливее, когда вернулись послы с Самоса с рассказом о приёме, оказанном им флотом, и о ответе, переданном от имени флота, в котором Алквиад приказывал Четырёмстам немедленно распуститься, но в то же время одобрял конституцию Пяти тысяч вместе с восстановлением старого совета. Немедленное включение Пяти тысяч стало бы встречным шагом к армии, и были надежды, что на этой основе можно достичь компромисса и примирения, о котором сам Алквиад говорил как о возможном [78]. Кроме формального ответа, послы, [стр. 62] несомненно, привезли известия о ярости флота и его неудержимом стремлении (сдерживаемом лишь Алквиадом) немедленно вернуться и спасти Афины от Четырёхсот. Это усилило убеждение, что их власть долго не продержится, и пробудило честолюбие у других, помимо Терамена, возглавить народную оппозицию против неё от имени Пяти тысяч [79].
Против этой народной оппозиции Антифонт и Фриних [стр. 63] всеми силами старались удержать большинство Четырёхсот, сохраняя свою власть без уступок. Они ни в коем случае не собирались исполнять требование превратить фиктивных Пять тысяч в реальность. Они хорошо понимали, что включение такого числа участников [80] равносильно демократии и, по сути, если не по форме, уничтожит их власть. Теперь они зашли слишком далеко, чтобы отступать безопасно; а угрожающая позиция Самоса и растущая оппозиция дома, как внутри их круга, так и вне его, лишь подталкивали их ускорить переговоры о мире со Спартой и обеспечить введение спартанского гарнизона.
С этой целью сразу после возвращения послов с Самоса два самых видных лидера, Антифонт и Фриних, вместе с десятью другими коллегами поспешили в Спарту, готовые купить мир и обещание спартанской помощи почти любой ценой. Одновременно строительство крепости у Этионеи велось с удвоенным рвением – под предлогом защиты входа в Пирей от флота с Самоса, если тот исполнит свою угрозу, но с истинной целью ввести туда лакедемонский флот и армию. Для этого были созданы все условия. Северо-западный угол укреплений Пирея, к северу от гавани и её входа, был отрезан поперечной стеной, идущей на юг до соединения с гаванью; от южного конца этой стены, под углом к ней, была возведена новая стена, обращённая к гавани и доходившая до конца мола, сужавшего вход в гавань с северной стороны, где она соединялась с северной стеной Пирея. Таким образом, была создана отдельная цитадель, защищённая от атак как из Пирея, так и из гавани, снабжённая собственными широкими воротами и калитками, а также удобствами для впуска врага [81]. Новая поперечная стена пересекала огромный портик – самый большой в Пирее, – и большая его часть оказалась внутри новой цитадели. Было приказано хранить всё зерно, как уже имеющееся, так и будущее, именно там и продавать его оттуда. Поскольку Афины существовали почти исключительно за счёт зерна, ввозимого из Эвбеи и других мест после постоянной оккупации Декелеи, Четыреста таким образом получили контроль над всем продовольствием граждан, а также над входом в гавань – либо для впуска спартанцев, либо для исключения флота с Самоса [82].
Хотя Терамен, сам будучи одним из стратегов, назначенных Четырьмястами, вместе со своими сторонниками обвинял эту новую цитадель в измене, большинство Четырёхсот стояло на своём, и строительство быстро продвигалось под надзором стратега Алексикла, одного из самых ярых олигархов [83]. Таково было привычное повиновение афинян установленной власти, даже когда подозрения о её истинных целях были сильны, – и так велик был страх перед предполагаемыми Пятью тысячами невидимых сторонников, готовых поддержать Четырёхсот, – что народ и даже вооружённые гоплиты продолжали работать на строительстве. К моменту возвращения Антифонта и [стр. 65] Фриниха из Спарты цитадель, хоть и недостроенная, была уже пригодна для обороны. Они отправились туда, готовые сдать всё – не только флот, но и сам город, – и купить личную безопасность, отдав Пирей лакедемонцам [84]. Однако с удивлением читаем, что последние не согласились заключить договор и проявили лишь нерешительность перед этим золотым шансом. Если бы Алквиад по-прежнему играл на их стороне, как год назад перед восстанием Хиоса, – если бы у них были энергичные лидеры, способные направить их на активное сотрудничество с изменой Четырёхсот, которые в этот момент сочетали и желание, и возможность отдать Афины в их руки при минимальной поддержке, – они могли бы сокрушить своего великого врага дома, прежде чем флот с Самоса успел бы прийти на помощь.
Учитывая, что Афины были спасены от захвата лишь медлительностью и глупостью спартанцев, можно понять, что у флота на Самосе были веские причины для их прежнего стремления вернуться, и что Алквиад, противясь этому, рисковал невероятно, и лишь невероятная удача спасла его. Почему лакедемоняне бездействовали и на Пелопоннесе, и в Декелее, когда Афины были преданы и находились на грани краха, – остаётся загадкой: возможно, осторожность эфоров заставила их усомниться в Антифонте и Фринихе из-за чрезмерности их уступок. Всё, что они пообещали, – это то, что лакедемонский флот из сорока двух триер, частично из Тарента и Локр, готовящийся отплыть из Ласа в Арголидском заливе на призыв недовольной партии на Эвбее, отклонится от курса и будет держаться близ Эгины и Пирея, готовый воспользоваться любой возможностью для атаки, предоставленной Четырьмястами [85]. [стр. 66]
Однако Ферамен узнал об этом отряде еще до того, как он обогнул мыс Малея, и заявил, что он предназначен для действий в согласии с Четырьмястами с целью захвата Эетионеи. Тем временем в Афинах после неудачного посольства и возвращения из Спарты Антифонта и Фриниха с каждым днем усиливались недовольство и беспорядки. Принудительное господство Четырехсот тихо исчезало, в то время как ненависть, вдохновленная их узурпацией, вместе со страхом перед их предательским сговором с врагом, все громче проявлялась в частных разговорах людей, а также на тайных собраниях во многих домах; особенно в доме периполарха, капитана периполов, или юных гоплитов, составлявших главную полицию страны. Такая ненависть не замедлила перейти от страстного чувства к действию. Фриних был убит двумя сообщниками, один из которых был периполом, или юным гоплитом, когда выходил из булевтерия, посреди многолюдной рыночной площади и средь бела дня. Убийца скрылся, но его сообщник был схвачен и подвергнут пытке по приказу Четырехсот: [86] однако он оказался чужеземцем из Аргоса и либо не мог, либо не хотел назвать имя какого-либо сообщника. От него не добились ничего, кроме общих указаний на собрания и широко распространенное недовольство. Четыреста, оставшись без конкретных доказательств, не осмелились схватить Ферамена, явного лидера оппозиции, как это сделает Критий шесть лет спустя при правлении Тридцати. Поскольку убийцы Фриниха остались нераскрытыми и ненаказанными, Ферамен и его сторонники стали действовать смелее, чем прежде. А приближение лакедемонского флота под командованием Агесандрида, который, заняв позицию у Эпидавра, совершил нападение на Эгину и теперь находился недалеко от Пирея, совсем не по пути в Эвбею, придало двойную [стр. 67] силу всем их прежним заявлениям о неминуемой опасности, связанной с крепостью в Эетионее.
Среди этой преувеличенной тревоги и раздоров основная масса гоплитов прониклась растущим с каждым днем отвращением [87] к новой крепости. Наконец, гоплиты филы, в которой Аристократ, самый горячий сторонник Ферамена, был таксиархом, находясь на службе и участвуя в строительстве, подняли открытый мятеж, схватили командующего Алексикла и заперли его в соседнем доме; в то время как периполы, или юная военная полиция, размещенная в Мунихии под командованием Гермона, поддержали их действия. [88] Весть об этом насилии быстро достигла Четырехсот, которые в тот момент заседали в булевтерии, причем сам Ферамен присутствовал. Их гнев и угрозы сначала обрушились на него как на подстрекателя мятежа, в чем он мог оправдаться, только вызвавшись идти в первых рядах для освобождения пленника. Он немедленно поспешил в Пирей в сопровождении одного из стратегов, своего единомышленника. Третий из стратегов, Аристарх, один из самых ярых олигархов, последовал за ним, вероятно, из недоверия, вместе с некоторыми из младших рыцарей, всадников или богатейших граждан, связанных с делом Четырехсот. Олигархические сторонники бросились вооружаться, распространяя тревожные слухи, что Алексикл убит, а Пирей занят вооруженными силами; в то время как мятежники в Пирее полагали, что гоплиты из города идут на них в полном составе. Какое-то время царили смятение и гнев, и малейший неудачный случай мог разжечь кровавую гражданскую резню. Успокоение наступило только благодаря настоятельным просьбам и увещеваниям старших граждан, а также Фукидида из Фарсала, проксена (общественного гостя) Афин в своем родном городе, о безумии такой вражды, когда враг уже у ворот. [стр. 68]
Опасное возбуждение этого временного кризиса, выведшее на свет истинные политические взгляды каждого, показало, что олигархическая фракция, до сих пор преувеличенная в численности, гораздо слабее, чем предполагали их противники. И Четыреста оказались слишком озадачены тем, как сохранить видимость своей власти даже в самих Афинах, чтобы послать значительные силы для защиты своей крепости в Эетионее; хотя они получили подкрепление всего за восемь дней до своего падения в виде по крайней мере одного дополнительного члена, вероятно, взамен случайно умершего предшественника. [89] Ферамен, прибыв в Пирей, начал обращаться к мятежным гоплитам с притворным недовольством, в то время как Аристарх и его олигархические товарищи говорили резко и угрожали силой, которая, как они полагали, вот-вот прибудет из города. Но эти угрозы встретили столь же твердый отпор со стороны гоплитов, которые даже обратились к самому Ферамену, спрашивая, считает ли он строительство этой крепости полезным для Афин или лучше бы ее разрушить. Его мнение уже было ясно высказано заранее, и он ответил, что если они считают нужным разрушить ее, он полностью согласен. Без дальнейших промедлений гоплиты и невооруженные люди толпой взобрались на стены и с готовностью начали разрушение; под общий крик: «Кто за Пять тысяч вместо Четырехсот, пусть поможет в этом деле». Мысль о старой демократии была у всех на уме, но никто не произнес этого слова; страх перед воображаемыми Пятью тысячами все еще сохранялся. Разрушение, по-видимому, продолжалось весь день и было завершено только на следующий день; после чего гоплиты освободили Алексикла, не причинив ему вреда. [90] [стр. 69]
Две вещи заслуживают внимания в этих подробностях, как иллюстрация афинского характера. Хотя Алексикл был ярым олигархом и непопулярен, эти мятежники не причинили вреда его личности, а удовлетворились тем, что заперли его. Далее, они не решаются начать фактическое разрушение крепости, пока не получат формального одобрения Ферамена, одного из назначенных стратегов. Сильная привычка к законности, привитая всем афинским гражданам их демократией, и осторожность, даже при отступлении от нее, чтобы отступить как можно меньше, явно видны в этих событиях.
События этого дня нанесли смертельный удар господству Четырехсот; однако на следующий день они собрались в булевтерии как обычно; и теперь, когда было уже слишком поздно, они, по-видимому, поручили одному из своих членов составить реальный список, придающий плоть вымышленным Пяти тысячам. [91] Тем временем гоплиты в Пирее, закончив снос новых укреплений, предприняли еще более важный шаг: вооруженными, они вошли в театр Диониса поблизости, в Пирее, но на границе Мунихии, и там провели формальное собрание; вероятно, по созыву стратега Ферамена, в соответствии с формами прежней демократии. Здесь они приняли решение перенести свое собрание в Анакейон, или храм Кастора и Поллукса, Диоскуров, в самом городе, близ акрополя; куда они немедленно направились и расположились, по-прежнему оставаясь вооруженными. Положение Четырехсот настолько изменилось, что те, кто накануне выступал против стихийного мятежа в Пирее, теперь были вынуждены обороняться против формального собрания, полностью вооруженного, в городе и рядом с их собственным булевтерием. Почувствовав себя слишком слабыми для применения силы, они отправили послов в Анакейон для переговоров и предложения уступок. Они обязались опубликовать список Пяти тысяч и созвать их для обеспечения периодической смены Четырехсот путем ротации из Пяти тысяч, в таком порядке, какой последние сами определят. Но они умоляли дать время для осуществления этого и сохранить внутренний мир, без которого не было надежды на защиту от внешнего врага. Многие из гоплитов в самом городе присоединились к собранию в Анакейоне и участвовали в дебатах. Поскольку положение Четырехсот больше не внушало страха, языки ораторов развязались, а уши толпы снова открылись – впервые с тех пор, как Пейсандр прибыл из Самоса с планом олигархического заговора. Это возобновление свободной и бесстрашной публичной речи, особого жизненного принципа демократии, было не менее полезно для успокоения внутренних раздоров, чем для усиления чувства общего патриотизма против внешнего врага. [92] Собрание наконец разошлось, назначив ближайшее время для второго собрания в театре Диониса, чтобы восстановить гармонию. [93]
В тот день и час, когда это собрание в зале Диониса уже собиралось, по Пирею и Афинам пронеслась весть, что сорок две триремы под командованием лакедемонянина Агесандрида, недавно покинув гавань Мегары, плывут вдоль побережья Саламины по направлению к Пирею. Это событие, вызвавшее всеобщее смятение в городе, подтвердило все предыдущие предупреждения Фераменеса о предательском предназначении недавно разрушенной цитадели, и все радовались, что разрушение было произведено как раз вовремя. Отказавшись от намеченного собрания, горожане единодушно устремились к Пейрею, где некоторые из них заняли пост для гарнизона стен и устья гавани; другие взошли на борт трирем, стоявших в гавани; третьи спустили на воду несколько свежих трирем из лодочных домиков. Агесандрид проплыл вдоль берега, недалеко от устья Пейреуса, но не обнаружил ничего, что могло бы сулить концерт внутри или склонить его к намеченному нападению. Поэтому он прошел мимо и двинулся к Суниуму в южном направлении. Обогнув мыс Суний, он повернул вдоль побережья Аттики на север, остановился на некоторое время между Торикусом и Прасией, а затем занял позицию у Оропа [94].




