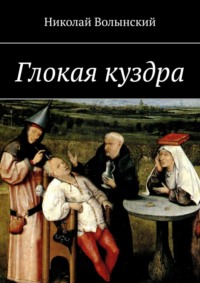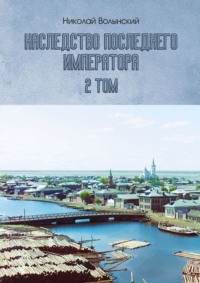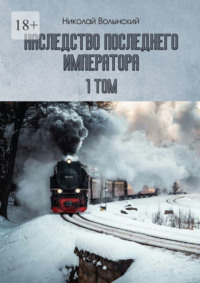Полная версия
Наследство последнего императора. Том 4
Неожиданно Россия, прежде всего, крестьянская опять ответила на «пьяную» реформу мощными протестами. Не только деревни, крестьянские общины, а целые уезды добровольно отказывались от употребления водки и полностью запрещали её продажу на своих территориях.

В. Е. Маковский (1846—1920). «Не пущу!» (по синим вывескам легко узнаётся дешёвый кабак). Спаивание народа в Российской империи обернулось горем не только для деревни, но и для города. Картина была запрещена цензурой.
Власть ответила жестокими репрессиями – арестами особенно активных трезвенников, массовыми порками населения. Пороли всех без разбору – вплоть до стариков, женщин и детей. Пороли даже священников. Вождей движения за трезвость вешали.
Народное сопротивление против истребления народа было подавлено. Но старообрядцы, как всегда, устояли перед очередными зверствами царской власти. Хотя и в их среде постепенно начался процесс «обмирщения» – некоторые, в основном, столичные богачи, приобщались к европейскому платью, начали пить вино и даже курить. И все же в массе своей староверы оставались носителями лучших качеств русского народа – религиозного трудолюбия и здоровой жизни. Многие пошли учиться, даже за границей заканчивали университеты. Грамотные и особенно ученые люди среди старообрядцев всегда пользовались уважением и даже почетом.
Видно, поэтому, решила Новосильцева, нет среди старообрядцев бедности, а нищеты и подавно.
– Не, Дунька, нищие у нас быват, я слыхала от людей, – сказала ей Гашка. – Хоть сама не видела. Варя одного видела, да не отгадала, наш или мирской.
– А воровство? – спросила Новосильцева.
– Попадаются. Но с крадунами у нас быстро.
– Руки отрубаете? – догадалась Новосильцева.
– Сдурела, городская? – расхохоталась Гашка. – Верно, у вас, у московских, отрубают. У нас по-другому. Быстро, – повторила она.
– Как же?
– Попадётся кто на воровстве, тогда собирают всю деревню. Каждый подходит и говорит вору: «Отрекаюсь от тебя, злодей, навечно!» Потом, коли возраст у крадуна подходящий, сдаём его вашему царю в солдаты. А ежели возраст не подходит, староста пишет бумагу царскому начальству, вся деревня бумагу подписывает. И по той бумаге вора ссылают на край Сибири, а то и дальше – на Сахалин. Так всегда делали, – уточнила Гашка. – Теперь не знаю, как. Сейчас другие напасти – вылезли из преисподней чехи, белые, зелёные всякие…
– А красные?
– Красных у нас нету. У нас партизаны. Свои, мужицкие, – шёпотом сказала Гашка. – В других краях, слыхать, есть и красные партизаны.
– А что Варвара? Слышно что?
– Ищем. Никеша с Серёнькой ищут. Какую неделю уже.
И ещё один важный вывод сделала Новосильцева из своих наблюдений.
«Мирские» русские, в массе своей, – народ со слабым чувством национального единства. У старообрядцев, наоборот, необычайно сильны солидарность, взаимовыручка и доверие друг к другу. Как у евреев, а, может, и ещё сильнее. Но, в отличие от евреев, давать деньги в рост староверы считают непростительным грехом. В делах со своими обходятся без письменных договоров и обязательств, несмотря на поголовную грамотность. Всё на честном слове. Обмануть своего или украсть старообрядец может только раз в жизни. После чего его изгоняют из общины. И проклинают. По таким же законам русские старообрядцы живут и в других странах, даже в самых далеких, за океанами.
3. Новосильцева. Исчезнувшая среди старообрядцев (окончание)

Типичный дом крестьянской старообрядческой семьи
Постепенно Новосильцева втягивалась в хозяйственные работы на подворье. Сначала ей доверили собирать яйца в курятнике, потом давать лошадям сено и овёс, гонять гусей на выпас. Скоро Гашка научила её доить корову, и Новосильцева была в восторге, когда надоила первое своё ведро.
Когда захолодила осень, Гашка и Мария наладились квасить капусту. Пришла помогать старшая сестра Акулина, беременная на седьмом месяце. Позвали и Новосильцеву.
– Все в округе капусту тяпками рубят. А тятька вона что наладил, – сообщила Гашка, показав деревянный лоток с косыми ножами.

Семья сибирского старообрядца В. Селиванова на заготовке капусты
Чуть оробев, Новосильцева взяла небольшой кочан, положила его в лоток. Осторожно провела кочаном по ножам – в бочку посыпались тонкие полоски, запахло капустным соком. Руки задачу поняли, Новосильцева осмелела, и капуста у нее затрещала.
К вечеру наготовили четыре бочки. Нашинковали туда моркови, антоновских яблок, накидали в каждую бочку клюквы и брусники, засыпали каменной солью, перемешали. Гашка еще добросовестно и долго деревянным толчком уминала. И вздохнула удовлетворенно, вытирая пот со лба:
– Ох, умаялась, девки.
– Ничего, работай, найдет тебя за то мужик хороший, полюбит, – пообещала Мария.
Отдыхать сели на лавку у клумбы. На закате цветы особенно сильно пахли. И от аромата ночных фиалок Новосильцевой стало немного грустно.
– И не сказать, что ты из барских, – заметила беременная Акулина. – Сноровистая. Мы думали, дурная.
– Я мало что умею, – ответила Новосильцева, не в силах пошевелиться от усталости. – Но учусь быстро. Стараюсь – быстро, – скромно добавила.
– Да уж. Из пистоля тоже палить? – прищурившись, поинтересовалась Гашка.
– Ещё сестрой милосердия служила, когда в Германии жила, – ушла от прямого ответа Новосильцева. – Могу – авто поведу, коня тоже оседлаю. Даже в монахинях побывала.
– Да с тебя монашка! – возмутилась Гашка, вытаращив глаза. – Монашка с пистолем, знат? Ну, вы, московские…
– Споём, что ль? – перебила её Мария. – Гашка, начинай! Нашу, про батюшку Аввакума.
Гашка кивнула, помолчала, собираясь, и тоненько, чуть дрожащим, но чистым и наполненным голосом завела:
В Даурии дикой пустынной
Отряд воеводы идёт,
В отряде том поступью чинной
Великий страдалец бредёт.
Вторым голосом вступили Акулина и Мария:
Вот стонет жена, голодая,
И силы кидают её,
И дети к ней жмутся, рыдая,
Пеняет она на житьё:
«Петрович, да долго ль за правду
Изгнание будем нести?
Ужели не встретим отраду
И долго ли будем брести?»
«До самыя, Марковна, смерти», —
Сказал ей Аввакум борец. —
«До самыя, Марковна, смерти,
Когда мой наступит конец».
И ветер в Даурии дикой
Унылую песню поёт,
И отзвуки речи великой
В Россию он смело несёт.
– Хорошо, – выдохнула Новосильцева.
Все замолчали и слушали вечернюю песню дрозда-пересмешника.
– О! – Акулина замерла, прислушиваясь к своему животу. – Пяткой бьёт, – и улыбнулась. – Надоело, знат, тёмно ему.
– Мальчика ждёшь? – спросила Новосильцева.
– Он, – согласилась Акулина. – Девка так пяткой не бьёт.
– Когда живот круглый – значит, девка, – авторитетно сообщила Гашка. – А у неё, вишь, жёлудем.
– Да… – в раздумье произнесла Новосильцева. – Вы живете не так, как все в остальной России. Всё у вас… так добротно, надёжно, а главное, чисто. Даже удобства при доме, в тепле.
– А ты попробуй с голой попой – да на мороз, да в метель! Забудешь, зачем в нужник выскакивала! – захохотала Гашка.
– Даже в иных европейских державах простой народ тоже живёт кое-где, как в хлеву. Я жила там, знаю, видела. Иные даже выгребные ямы не копают. В Курляндии, например. Чухонцы там.
Гашка ухмыльнулась – свысока, а Мария заметила:
– У многих наших тоже скворечня нужная в хлеву или на дворе. Это тятька выдумал каналезею выкопать, да подале от реки. Около реки нельзя. Два лета строили. Чистота – для жизни главное.
– Знаш – бесы и тока бесы грязь любят, – заявила всезнающая Гашка. – Так прячутся в ней, что не видать. На руках грязных. А особливо в кухонной посуде. Ты думаешь, миска там, или горшок, иль чугунок просто немытые стоят. Нет, в них уже бесы спрятались, тебя дожидаются! Откроешь рот – так в тебя, в нутро бесы и запрыгнут. А ты потом: «Ой, живот болит! Ой, болячка моровая, знобуха, огневица прицепилась, вся горю! Летячка17 всю рожу порыла! Спаси, Наумовна!»
– Вот оно как! – поразилась Новосильцева, которой только что кратко преподали основы микробиологии и социальной гигиены.
– Нравится у нас? – усмехнулась всё понимающая Гашка.
– Нравится, – призналась Новосильцева.
– Так оставайся насовсем! Ты девка толковая, без московских глупостей, работы не боишься, научаешься быстро. Зачем тебе война? Окрестим тебя по нашему закону, жениха подыщем, чтоб работящий был, в вере крепкий и чтоб жалел тебя. Оставайся.
– Ах, Гашенька, родная… – едва не расплакалась Новосильцева. – Может, и осталась бы. Только не одна я. Муж у меня пропал.
– Чехи схватили?
– Они. Искать буду.
– Да справишься ли?
– Должна. По-другому никак. Я уже вашего отца попросила помочь.
Гашка вытаращила глаза – вот выскочат. Акулина недоверчиво усмехнулась:
– И поможет?
– Обещал, не знаю…
Скрипнула дверь токарной мастерской, вышел Никифор, подмышкой гармонь-тальянка. Она искрилась в лучах вечернего солнца красным перламутром. Постоял, раздумывая. Подошёл неторопливо и даже торжественно.
– Сшил? – встрепенулась Гашка.
– И сшил, и склеил, – внушительно ответил брат. – Подвинься.
Сел на скамью, растянул мехи, ловко перебрал клавиши, встряхнул головой. Гармонь была не в сборе – один колокольчик оторван.
– Чехи гармошку грабили, – пояснила Новосильцевой Гашка. – А он не дал. Чех тянет, Никишка не отпускает, крепко стоит. Тут гармонь – раз! – и надвое. Чех плюнул и отстал. Будешь играть? – спросила брата.
– Дома тятька? Вернулся из города? – озабоченно спросил парень.
– Нет ещё. Чтой-от задержался.
– Тогда сыграю. Новая песня! – громко объявил он. – Вчера слыхал у мирских.
– Зачем нам мирские песни? – хмыкнула Гашка.
– А ты послышь. Хорошая.
Сделал несколько звонких аккордов, упёрся подбородком в гармонь и запел:
Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца убили злые чехи,
А мать живьём в костре сожгли.
Сестру родную в плен забрали,
А я остался сиротой.
Не спал три дня, не спал три ночи,
Сестру из плена выручал.
И на четвёрту постарался,
Сестру из плена я украл.
С сестрой мы в лодочку садились
И тихо плыли по реке.
Но вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
То чех пустил злодейску пулю,
Убил красавицу сестру.
Сестра из лодочки упала,
Остался мальчик я один.
Взойду я на гору крутую
И посмотрю на край родной.
Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя!18

Загремели железом колёса телеги – во двор въехал Абрам Иосифович.
– Ой, тять приехал, – вскрикнула Гашка.
Поперхнувшись, Никишка сильно сжал меха взревевшей гармони и вскочил. Все встали и поклонились отцу в пояс.
– Доброго вечера, батюшка!
Новосильцева тоже поклонилась.
Остановив тяжело дышащую лошадь, Абрам Иосифович медленно слез с телеги, бросил в неё вожжи и оглядел всех.
– И вам то ж, – хмуро сказал он. – Праздник-от какой? А я и не знал. Чего распелись?
– Дак Никишка гармонь стачал! – как всегда, смело ответила Гашка. – Вот пробовали. Все пробовали.
– Все? Пробовать – не на всю округу. Пошто гулянку затеяли? Твои вопли, Гашка, за три версты слыхать.
– А если весело? – задрала нос Гашка.
– Так с чего бы?
– Вот, нашинковали целу гору. Дуня тоже научилась. Гуляли, потому как работа сработалась.
– Гору, знат? – усомнился отец. – То гора называется? И Дуня? Тебе в пляс пуститься осталось.
– А чего-сь? – с вызовом прищурилась Гашка. – После хорошей работы и поплясать.
– После хорошей на пляски не тянет, – усмехнулся Потапов. И – Новосильцевой, словно ища сочувствия. – Вся в бабку свою. Такая же была. Татарка, одно слово.
– Ваша мать татаркой была? – удивилась Новосильцева.
– Тёща. Как окрестилась, строже всех стала в вере. В пост яишню не даст. А как разговеется – не удержать было, – усмехнулся в бороду. – И петь, и плясать, и всякие шутки шутить. И татарские песни петь, и наши. Ты думаш, откуда мои шалопуты глаза синие взяли? От неё, от татарки. Ну да мы не по крови – по вере на людей смотрим. Так… Никишка! – приказал он. – Распряги и, как выводишь Красотку, чтоб поостыла, напоишь, почистишь, овса задашь.
– Знаю. А зачем Красотку гнал, тятя? – поинтересовался Никифор и взял лошадь под уздцы.
Красотка роняла с губ пену, на боках и подмышками у неё темнели остро пахнущие пятна пота. Пожилая лошадь тревожно встряхивала гривой, звенела удилами и не могла отдышаться.
– Всё-от тебе знать надо, – проворчал Абрам Иосифович. – Сказано в Писании: не любопытствуй всуе.
Он взял с телеги большой свёрток, бумажный, обмотанный бечёвкой, и газету, сложенную вчетверо.
Никифор повёл лошадь за дом, на конюшню.
Отец, мельком глянув на бочки с капустой, сказал вполголоса:
– Евдоксья! – и кивнул на дом.
В прихожей Абрам Иосифович стащил с себя сапоги, влез в мохнатые пантуфли из медвежьего меха, стёртые по краям. Новосильцева сбросила лапти, осталась босиком.
Потапов положил свёрток на стол, развязал бечёвку, сунул её в ящик комода и после этого развернул бумагу.
– Оно? – спросил. – Или не оно?
В свёртке оказалось тёмно-серое платье с пелериной, белый передник с красным крестом на груди и белый плат, похожий на старообрядческий, с красным крестом во лбу.
– Будто и не ношено, – оценила Новосильцева.
– Стал бы я у чужих ношено для тебя брать, – хмыкнул Потапов. – Не надёвано ни разу. Такое ли надоть?
– Такое, спаси Бог. Только…
– Что только?
– Платье и передник – те, что надо, Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. А плат – Кауфманской общины, графини Бобриковой.
– И что тогда? – озабоченно спросил Абрам Иосифович.
– А ничего, собственно. И те, и другие были мобилизованы, многие погибли на фронте. И общин тех, думаю, уже нет. Важнее документ.
– Есть документ, – довольно сообщил Абрам Иосифович. – Он?
И положил на стол серую картонную книжечку – удостоверение на имя Марии Свиридовой, уроженки Череповца, сестры милосердия Крестовоздвиженской общины. Всё, как полагается – печать, неразборчивая подпись. Фотография мутная – переснята с сохранившегося у Новосильцевой паспорта на имя Свиридовой, но для такого удостоверения сойдёт.
– Вот ещё.
Потапов достал из кармана пиджака картонную коробочку и открыл. Янтарно блеснули плотно уставленные патроны для браунинга.
Новосильцева взяла коробку и положила в карман.
– Благодарю вас, Абрам Иосифович, спаси вас Бог, родной. Век ваша должница.
– Век? – переспросил Потапов, чуть усмехнувшись. – Долго же мне ждать.
– Ой, простите, это я так, к слову, – смутилась Новосильцева. – Сколько с меня?
– За все на круг выходит пятнадцать тысяч, сибирками. Документ дорого вышел, зато быстро. Найдётся?
– Есть, сейчас принесу.
– А то можешь половину, – подумав, сказал Потапов. – Остальное – до лучших времён.
– Когда-то они ещё настанут, лучшие времена! – возразила Новосильцева. – И доживём ли? Есть и царские.
– Царскими – пятьдесят рублёв.
– Может, лучше золотом? Империалами. Сколько это?
– Золотом? Дай-ка сочту… Два империала по семь пятьдесят.
– Сию минуту! – заторопилась Новосильцева.
– Погодь, постой, Евдоксья, – остановил её Потапов. – Золотом – да, хорошо. Самое лучшее. Надежней не бывает. Только, чай, оно тебе сейчас нужнее будет. Мы-то остаёмся на своей земле, в своём дому. А как у тебя повернётся – кто знат? И где ты будешь?
– Спасибо. Сей же час принесу…
– Ещё постой. Не сказал главного. Так поспешал, что Красотку запарил. Ищут тебя. Чехи.
Она замерла.
– Но откуда?..
– Оттуда… – вздохнул Абрам Иосифович. – Я на Серёньку грешу. Не то, чтобы по своей воле, а сдуру болтнул где-то. Большая у них злоба на тебя. Всё вокруг обыскали, только до нас не дошли. Слышно, ты стрельнула кого-сь. Гада-от не жаль. Но могут и сегодня налететь. Сведения верные. Так что в дому больше нельзя.
– Хорошо… Я поняла, – тихо произнесла Новосильцева. – Сегодня же уйду. Как стемнеет.
– Не спеши, девка. Другое скажу.
– И… что?
– Скажу, скажу. Живо собирай вещички. И те, что в бане прячешь, захвати.
Она взяла сверток и через четверть часа была в сенях, уже переодетая в сестринское. На ремне через плечо – небольшой кожаный кофр, подарок Никифора.
– В другом месте тебя спрячу, – сказал Потапов. – В подклети. Есть там норка. Ни одна собака не сыщет.
Он поднял ковровый половик.
– Что видишь?
Она внимательно осмотрела блестящие жёлтые доски.
– Ничего.
– Стало быть, хорошо сделал, – удовлетворённо заявил Потапов.
Он нажал на половицу – приподнялась квадратная крышка люка.
– Одна Соломонида знает и старшой Васька. Ты – четвертая. – Принеси-ка, – он указал на свечу в медном подсвечнике на комоде.
Когда спустились в прохладную и сухую подклеть, Абрам зажёг свечу. Огонёк затрепетал.
– Здесь есть другой выход, – заметила Новосильцева. – Сквозит.
– А ты не дура городская, – похвалил Потапов. – За мной иди.
Пробираясь между ящиками, бочками и ларями, они оказались в небольшой комнатке. Потапов поднял свечу и осветил крохотный столик с керосиновой лампой и лавку у стены. Зажёг лампу, огонёк ушёл в сторону и застыл под ламповым стеклом.
– Выход, – указал Потапов на лаз с деревянной крепью. – Отсюда – в лес, к реке. Сажен двести. А там и до вокзала недалече.
– Пролезу ли? – засомневалась Новосильцева.
– Так я-от пролез! Позавчор и проверял, будто почуял… А, можа, и не понадобится. Можа, только отсидишься тут-от… Как Бог даст.
Он вздохнул и сказал тихо:
– Ну, оставайся. Что ни станет там, наверху, не выходи. Ни в коем разе. Гашка поесть, попить принесет.
– А деньги? Вот, – она открыла кофр.
– Потом, потом, – отмахнулся Абрам Иосифович. – Сказано же – до лучших времён. Сочтёмся.
– Я… я даже не знаю, что и сказать… – шёпотом произнесла Новосильцева, чувствуя подступивший острый комок в горле и близкие слёзы.
– Ну-ну, не раскисай, не ко времени! – приказал Потапов.
– Абрам Иосифович, – она обняла старика и поцеловала в волосатую щеку, пахнущую лошадиным потом. Потом неожиданно для себя самой схватила его тяжёлую загорелую руку и тоже поцеловала.
– Да ты что творишь? – прикрикнул Потапов и добавил. – Совсем с разума девка съехала… Мужику руку лобзать! Я ж тебе не поп ваш.
– Абрам Иосифович… – начала Новосильцева.
– Тихо, девка! – вдруг шёпотом приказал Потапов. – Слушай!
Сверху издалека донеслось глухое рычание автомобильного мотора, звонко заржали лошади – чужие. Своих Новосильцева уже научилась узнавать по голосам.
– Всё! – заторопился Потапов. – Спаси тебя, Господь! – и перекрестил Новосильцеву. – Ни в коем разе наверх не выходи! – повторил он.
И неожиданно погладил её по голове.
– Прощевай! Хорошая ты девка, хоть из господ, да ещё из мирских. Пришлась ты нам.
Когда Потапов исчез, Новосильцева достала из коробки четырнадцать патронов. Остро отточенной стальной шпилькой сделала на конце каждой пули насечку крест-накрест, превратив их в разрывные. И принялась заряжать обойму, одновременно прислушиваясь.
Сначала сверху доносились невнятные голоса – чехи спрашивали о чем-то Потапова, он отвечал. Потом раздались крики:
– Wo ist deine rote Bolschewikenhure? Zeige sie, oder deine Familie erschissen wird19! Давай красную суку, будем всю семью твою здесь пиф-паф!
– Я ж вам в который раз, ваше благородие! – срывающимся голосом убеждал Потапов. – Нет её в избе, была – правда, была! Хворая была, ночевала – мы ж не знали, что вы её искать почнёте! А нонче нет её в дому!
– Все пистро у твор! У твор, indenHof20 все пошли! Быстро-быстро, давай-давай! Los-los!
Загремели шаги в сенях, потом топот подкованных сапог. Затрещала мебель. Послышался звон разбитой посуды.
– Где вона? Где? Стреляем тебя и всю семью твою!
Новосильцева почувствовала, как по спине заструился холод. «Придётся выходить. Вот и конец», – усмехнулась.
Сапоги застучали по лесенке в светёлку, и наверху загремела мебель – похоже, опрокинули кровать и комод.
Новосильцева загнала обойму в рукоятку пистолета и сняла его с предохранителя.
Сверху послышались крики:
– Вонявка! Тут вонявка21!
Так, нашли её флакон с остатком французских духов. Их Новосильцева оставила специально для Гашки – та просто млела каждый раз от волшебного аромата, но попросить для себя не осмеливалась.
– červené prostitucezde!22
Чехи спустились на первый этаж, ещё что-то разбили и потопали на двор.
Новосильцева прикрутила фитиль керосиновой лампы, оставив крохотный огонёк, и кинулась к лестнице.
Люк наружу не открывался, как она ни старалась. Потом поняла: поверх люка – ковровый половик, он и не пускает.
Сосредоточившись и увидев внутренним зрением, как половик поднимается и освобождает люк, Новосильцева выбрала наилучшую точку опоры на лестнице. Упёрлась в люк обеими руками и головой, напряглась что было сил. И когда люк с трудом поднялся, во дворе послышались крики, потом грянул винтовочный залп. За ним несколько пистолетных выстрелов – Новосильцева насчитала шесть.
Она выбралась наружу и бросилась к окну. У крыльца четверо солдат и офицер молча наблюдали, как двое легионеров обшаривают убитых. Здесь они были все, и лежали головами к дому – Абрам, Соломонида, Никифор, беременная Акулина, Мария и Гашка.
Выбив локтем стекло, Новосильцева крикнула:
– Tak jsem přišla! Hledáte mě? Jeto tak?23
Чехи не успели понять, что им крикнула из разбитого окна красотка с застывшим, словно каменным страшным лицом. Она ни разу не промахнулась и остановилась, лишь когда затвор пистолета застыл в заднем положении – кончились патроны.
Новосильцева внимательно оглядела из окна весь двор. Четыре лошади привязаны к воротам и к скамье перед клумбой. Однако автомобиля, который она услышала из подвала, нет. Она уже собралась выйти, но в этот момент приблизился звук мотора – автомобиль ехал к дому.
Она перевела дух, подавила комок в горле и вернулась обратно в подклеть, в потаённую комнату.
Здесь она сидела несколько часов, не шевелясь и ни о чём не думая. Медленно приказала себе замереть.
Когда, по ощущению, должен наступить рассвет, выбралась через лаз и оказалась на берегу реки – точно посреди густого ивняка, в котором был скрыт выход.
На вокзал станции Раздольная – на вывеске «NovaPraga» – она пришла в половине шестого утра и удивилась: уже в этот час полно народа. В основном, штатские, многие с детьми. Беженцы.
Мелькали в толпе и военные, крестьяне и несколько священников. Толпа была разделена на две очереди – к билетной кассе и к выходу на перрон. У турникета на посту двое солдат – русский и чешский.
Кассовое окошко было закрыто и заперто снаружи на решётку, на ней висело объявление, написанное от руки: «Билетов нет и не ждется».
Новосильцева огляделась. Отметила неподалёку усатого носильщика с дореволюционной бляхой на груди. Тот сидел на своей пустой тележке и скручивал махорочную «козью ножку».
– А что, отец, – подошла к нему Новосильцева. – Поезд на Омск скоро?
– Поезд… – хмыкнул носильщик. – Тебе, сестрица, поезд? Что, так сильно надо ехать?
– Очень нужно, уважаемый. Полгода с фронта добираюсь.
Носильщик лизнул край газетной бумажки с завёрнутой в неё махоркой, склеил. Чиркнул о колено спичкой, закурил. Новосильцева терпеливо ждала.
– Поезд, он – да, быть должóн, – наконец сказал носильщик. – Телеграмма диспетчерская уже была.
– Скоро будет?
– Может, через полчаса. Али задержится. Сама знаешь, как оно сегодня.
– И классные вагоны в нём есть?
Попыхтев цигаркой, носильщик прищурился:
– А коль и есть, тебе-то что? Билетов всё одно нету. Давно расхватали. Еще в Катькине. А то и в Москве.