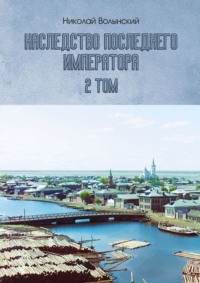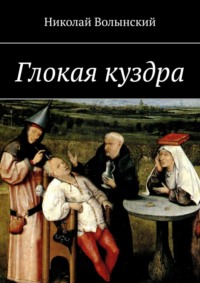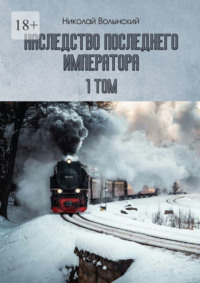Полная версия
Наследство последнего императора. Том 4
Больше всего на свете хочется одного – сесть. Ещё лучше – лечь прямо здесь, на берегу или, пожалуй, вон на той полянке, под кустом боярышника. Лечь, закрыть глаза. И пропади пропадом весь белый свет, только бы крутого, прямо с огня, даже пустого кипятку…
Она брела, глядя в землю и пятками оставляя на песке длинные полосы следов.
– Так-так, – остановилась. – А это что там виднеется? Это, мадам, мост. Хороший деревянный мост через речку. Под ним можно лечь – прекрасная крыша над головой. Дождь, снег – нипочём… Можно заснуть под мостом и проспать до зимы. Только бы лечь… – шептала она потрескавшимися губами и брела дальше.
– Ну, вот и добралась…
Она присела под мостом, привалилась спиной к деревянному быку, вбитому в песок, закрыла глаза и тут испуганно открыла. Останется здесь – пропадет. Нужно где-нибудь разыскать постель, теплое одеяло. Кружку крутого кипятку. В него можно бросить несколько цветков липы.
– И три чайные ложки коньяка. Как тогда, когда меня арестовал комиссар Яковлев, страшный чекист. И сама любезность с маузером и в кожанке. Просижу еще минуту, иначе просто помру. И никто не узнает и не пожалеет. Приползет крыса желтозубая и станет грызть меня. Нет, она же питается только священными цветками лотоса от йога Рамачараки. Или нет? Водяными орехами она питается. Сейчас выползем на тракт, а там подумаем, откуда желтозубая негодяйка берет водяные орехи и какие они…
Чтобы выйти на дорогу, предстояло невозможное: подняться по тропинке из-под моста на косогор. А там кто-нибудь Новосильцеву увидит. И раздует самовар. Только бы не Зайчек. Матрос и комиссар её, конечно, ищут повсюду, с ног сбились, а она – вот она. Как ни в чем не бывало.
Спазм сдавил горло. Слёзы сами полились. Неожиданно Новосильцева испытала облегчение.
– Так вот зачем бабам слезы, – всхлипнула она и вытерла глаза. – Душу омыть и освободиться от боли. Повезло, что я не мужчина… Ну, вперед!
И поползла вверх по тропинке, хватаясь за землю, за толстые корни каких-то деревьев.
Один корень оторвался, другая рука скользнула, и Новосильцева поползла вниз. Остановилась у кромки воды. Перевела дух и принялась карабкаться снова. Наконец добралась до края косогора и упала на землю грудью.
Отойдя немного, села на траву, лечь не решилась – точно знала, что не встанет.
И вдруг вспомнила, что у неё на руке должны быть любимые швейцарские часики. И обрадовалась: на месте они, идут прилежно, показывают четыре часа пополудни. Потом долго, страдая до боли, рассматривала свежую дыру на правом чулке, на колене. Вздохнула, утешая себя: «Скоро новые куплю. В Париже. Пятьдесят пар сразу. Но сначала на тракт».
Медленно пересекла широкую грунтовую дорогу, по которой ветер гонял тонкую желтую пыль. И села на траву у обочины, в тени огромной лиственницы.
– Что же… Справилась. Так будет и завтра, и всегда.
Глянув на часы, она обнаружила, что прошло двадцать минут. Надо идти.
Она с трудом поднялась, но едва прошла пять шагов, как её насквозь пронзила страшная боль в животе. Новосильцева тонко вскрикнула, словно цыпленок под ножом, оседая на землю. Обморочная тьма накрыла собой и её, и боль в животе.
Очнувшись, почувствовала легкий холодок на висках, в лицо брызнул дождик – тонкий и мягкий. Потом услышала топот копыт, скрип тележных колёс, ощутила острый запах лошадиного пота и свежего сена.
Она открыла глаза и увидела, что на нее в упор смотрят чужие глаза – серые, прищуренные, под седыми бровями, озабоченно сдвинутыми. Ниже толстый нос с кустиками седой шерсти в каждой ноздре, еще ниже – широкая, лопатой, крестьянская борода, черная, блестящая, тронутая сединой.
Мужик брызнул ей в лицо воды из глиняной кружки и сказал:
– Вот и слава Господу, пообмогнулась… Слышишь меня, барышня? Видишь?
Проглотив комок в горле, Новосильцева кивнула. Где-то она уже видела этого мужика, и, кажется, недавно.
– Чегось ты здесь, барышня? – спросил он.
Теперь Новосильцева разглядела и высокую суконную шляпу на голове крестьянина и вздрогнула: это был тот самый старовер-начётник, у которого Яковлев спрашивал дорогу. Уже тогда мужик Новосильцевой очень не понравился, а сейчас она и вовсе испугалась.
– Что ты здесь? – повторил мужик. – Почему-от сама? Где твои? Куда подевались?
Она молчала, продолжая мелко дрожать.
– Да не робей ты, не съем, чай, – усмехнулся крестьянин. – Попьёшь?
Он поднес кружку к её губам, она сделала несколько глотков тепловатой воды.
– Бросили тебя одну? – снова спросил мужик. – А если чехи? Такую зазнобистую не упустят.
– Не знаю… – прошептала она.
Мужик вышел на дорогу, глянул направо, налево – ничего не увидел. К нему сзади подошла лошадь и толкнула хозяина мордой в спину.
– Погодь чуток, Мушка, – сказал крестьянин и погладил лошадь по нежному розовому храпу. – В сей же час пойдем.
Ответ Мушке явно не понравился и лошадь, задрав хвост, вывалила на дорогу несколько жёлто-зелёных яблок. От них пошёл пар.
Мужик снял шляпу, вытер ладонью лысину и вернулся к Новосильцевой. Оглядел её, задержавшись взглядом на дыре в чулке, покачал головой.
– Да тебя обидел кто? – тихо спросил он.
Она всхлипнула и кивнула, вытерев ладошкой слезы.
– Господи, – сказал крестьянин и глянул на небо. – Покарай злодеев по твоей правде, если люди не смогут.
Он снова глянул на её ноги:
– Неужто покалечили? – и потянул носом.
Теперь и она ощутила отвратительный запах – запах гнилой крови. По ногам потекло что-то тёплое.
– Мне плохо, отец, – еле выговорила Новосильцева. – Я сейчас умру.
– Да что-от ты выдумала! – всполошился крестьянин. – И не посмей! Погодь, потерпи, свезу тебя к себе, баба моя тебя поправит, у ней вся деревня лечится.
Он осторожно поднял Новосильцеву и бережно уложил в телегу на сено. Порылся в углу, выкопал из сена кусок белого полотна, свернул.
– Ты вот что… На меня не гляди. Возьми, – он протянул ей клубок. – Положи себе… А то ж истечёшь-от, пока доберёмся.
Мужик отвернулся, взял в руки вожжи, а Новосильцева расстегнула вверх юбку, приспустила панталоны, собираясь положить клубок между ног. И тут страшная боль снова пронзила ее – теперь в самом низу живота. Она крикнула – отчаянно, с надрывом. Лошадь испуганно всхрапнула и дернула телегу, мужик натянул вожжи, оглянулся, потом хлестнул ими лошадь.
2. Новосильцева. Исчезнувшая среди старообрядцев

ЖЁЛТЫЙ мягкий свет.
Тёплый и нежный. Льётся, просачивается сквозь веки.
Точно трепетный огонёк восковой свечки в церкви. Или на рождественской ёлке – из еловых лап истекает сладко-морозный запах, даже одежда пахнет Рождеством, хвойной свежестью, восторгом и немного тайной. Так пахнет детское счастье.
Никак не открыть веки. Даже не шевельнуть. Но свет всё равно сквозь них проникает и становится всё ярче.
Вслед за светом пришли звуки.
Где-то близко фыркнула и глухо переступила копытами лошадь.
Заквохтала курица – недовольно, с раздражением. Явно ищет место, чтоб снести яйцо без свидетелей.
Хрипло ей ответил сердитый хор гусей.
Чему-то удивляясь, тоненько заблеял ягнёнок.
Зазвенели колокольчики – похоже на детские голоса. И снова тишина.
Глаза не открываются. Словно их и нет совсем – растаяли. И тело не отзывается. Наверное, испарилось.
А тёплый золотой свет по-прежнему ласкает застывшие веки над растаявшими глазами. И снова тишина. Ни лошади, ни курицы с гусями, ни ягнёнка, ни детей с голосами, словно колокольчики… Или это не дети? Ангелы, наверное. Уж очень красивые голоса – хрустальные, неземные.
«Вот какая она, смерть. И всё по науке. Сначала умирает тело, распадается на молекулы. Мозг гибнет не сразу. Телом он уже не управляет, но свет и звуки воспринимать пока способен. Я ведь умерла? Что же ещё. В Тот Мир – или он уже Этот – живыми не попадают.
Главное, совсем не страшно. Легко, тепло. И, удивительно, никакой боли.
И не обидно, что так мало прожила на Том Свете – страшном, безжалостном и бессмысленном. Там невозможно счастье, какое сейчас ощущает всё… тело? Нет-нет, тело – грубая и ненадёжная материя, оно разлетелось молекулами во Вселенной. Вместо него пришло счастье. Я переполнена счастьем. Как и обещано: «Блаженны плачущие, ибо утешатся. Блаженны чистые сердцем, ибо Бога узрят».
У меня чистое сердце? У меня теперь нет сердца. Может, и не было. И счастья не было. Чуть попробовала, оно и закончилось. Зато сейчас хорошо. Но всё же не так, как этого хотелось на Земле.
Минутку. Разве на небесах есть скотный двор? Лошади, гуси. Или там есть всё?»
Тут веки поднялись сами собой – легко, и Новосильцева увидела над собой сплошную черноту.
Она пристально вглядывалась в неё, и постепенно тьма менялась. В ней стали появляться формы.
Прямо над головой обнаружился низкий потолок из закопчённых досок, на них различались светлые древесные разводы. Потом из темноты выступила коричневая бревенчатая стена. Висят веники на деревянном колышке, вбитом в стенку. Обычные банные веники. Два берёзовых и один дубовый.
«Значит, прав оказался мерзавец Свидригайлов10? Потусторонний мир он так себе и представлял – закоптелая деревенская банька с пауками по углам».
Пауков Новосильцева не рассмотрела. Но обнаружила, что лежит на широкой лавке, на мягком тюфяке. Укрыта лёгким шерстяным одеялом, похоже, домотканым – ярким, в большую черно-красную клетку, вроде шотландского пледа.
Справа приставлена трехногая табуретка. На ней аккуратно сложена её юбка цвета хаки, френч и нижняя сорочка. Все чистое и безупречно выглаженное – явно чугунным утюгом, а не крестьянским деревянным рубелем. Даже её английская фуражка с козырьком, широким, как навес, здесь же. Из-под фуражки выглядывает никелированная рукоятка браунинга. И её деньги двумя стопками: «сибирки», их побольше, и маленькая царских «петенек» и «катенек». Рядом холщовая колбаска с империалами. Новосильцева с усилием вытащила из-под одеяла руку и потрогала – да, она, не тронута. Никто не соблазнился.
Снова заорала курица – теперь высокомерно и самодовольно: снеслась, наверное.
Новосильцева ощупала себя – тело никуда не делось. Только его стало вроде бы меньше, и сильно выпирают берцовые кости.
– Сколько же я тут лежу? – спросила себя Новосильцева. – И раз уж банька не свидригайловская, значит, и я ещё живая, никуда не перенеслась. И не испарилась.
Она с трудом выпрямилась и села. Вздохнула два раза, опустила босые ноги на деревянный пол – гладкий, словно шёлковый, видно, песком начищен. Встала и…
Чёрный потолок навалился, уплыло в сторону банное оконце. Тело прошибло горячим потом, и Новосильцева, лихорадочно дыша от слабости и страха, упала на лавку.
Когда темень отошла от глаз и сердце освободилось от страха смерти, она тихо позвала:
– Эй, хозяева… Слышит меня кто?
Но это ей только показалось, что она позвала. Голос словно заржавел, вместо слов удалось вытолкнуть из груди бессильный хрип. Она подождала, пока наберёт ещё немного сил, с трудом откашлялась:
– Хозяева! Есть кто?
Получился мышиный писк, но всё же получился.
Скрипнули половицы в предбаннике, загремела жестяная шайка. В дверь громко постучали.
– Барышня! А, барышня! Ты звала? – услышала Новосильцева несмелый юношеский голос. – Как ты там? Взойти-от можно?
– Можно, – снова откашлялась Новосильцева и продолжила уже почти нормальным голосом. – Да, я звала, заходите, пожалуйста.
Звякнув, поднялась щеколда. Низкая дверь приоткрылась, просунулась сначала голова, русая, стриженная в скобку. Потом показался крестьянский парень лет восемнадцати – в светлых холщовых портах, босой, в выгоревшей полотняной рубашке.
– Я взойду? – спросил и переступил порог.
Оба молчали, рассматривая друг друга. Новосильцева отметила необычно яркие синие глаза парня – даже в полутьме видно.
Наконец парень заговорил чуть смущённо:
– А я за лошадью шедши, слышу – голос будто подался, нут-ка гляну. Уж который день спишь.
– И сколько же я проспала?
– Да, считай, с неделю, – оживился парень. – Маманя тебя маком поила, так хвороба легче уходит. Ну, значит, надо маманьке сказать. «Пора, грит, барышне оклематься, а то как бы хуже не стало». Не стало, знат?
– Мне хорошо. Будто только родилась, – улыбнулась Новосильцева.
Парень хмыкнул, довольный:
– Была чуть не помёрла. Хорошо, папаня успел привезти. Маманька у нас знахарка. Да ты не бойся, не ведьма, просто травы знает, всех в округе лечит. С молитвою.
– Как же я могу бояться? – возразила Новосильцева. – Своей спасительницы? А кто хозяин?
Парень переступил на месте.
– Папаня у нас хозяин – кто ещё. Он тебя привёз, – повторил парень. – Только знай сразу: строгий он у нас, потому как ещё и начётник.
– Начётник? – задумалась Новосильцева. От кого-то она недавно слышала это слово.
– Мы древлеправославные, – скромно, но с достоинством пояснил парень. – У нас вера истинная. Как издревле отцы церкви, святые и мученики заповедали. Мы Христу молимся, а ваши попы московские – раскольники, жеребячье племя, пьяницы, Антихристу молятся. Вот митрополита у нас нет своего, чтоб попа назначить. Потому мы беспоповцы. Папаню нашего мир выбрал службу править, молитвы читать, судить, если надо. И крестить, и причащать, и хоронить.
– И указы Синода не признаете? – спросила Новосильцева, что-то вспоминая.
– Не признаем – они ж раскольники. И царску власть тоже, и колчаковску признавать не могём, потому как белые тоже от царя, стало быть, от Антихриста. А что, вправду красные царя расстреляли? Слыхала?
– Слышала. Правда, – она теперь все вспомнила, что рассказывал Яковлев.
– Давно надо было с ним. Ничего, дай срок, и Колчака с белыми погонят, и чехов с казаками.
– Вы что же, верите красным? – с трудом улыбнулась Новосильцева.
– Ну, как… – парень почесал в затылке и вздохнул. – Землю обещают. И попов с белыми генералами прогнать.
– Обещать можно что угодно. Важно, что потом.
– Как почнут давать – вся Расея за них станет. И мы. Не забоишься таких? Ты ж, вроде, из господ, из владельцев. Страшно?
Она улыбнулась свободнее.
– Нет у меня земли. Да и страх давно потеряла.
– Нехорошо, – озабоченно сказал парень. – Страх нужóн. Иначе, как Бога бояться – да без страху.
– А звать тебя?
– С утра Никишкой звали. Потаповы мы.
– Никифор, верно?
– Никифор Абрамов. Тятя у нас Амбрам Иосич.
– А мать?
– Соломонида Наумовна. Как папанька тебя притащил, она была в дальний скит собралась, за Варюху молиться. И не поехала, чтоб на нас однех тебя не оставить.
– Спасибо ей, – тихо произнесла Новосильцева. – Так не пойму, вы всё-таки православные будете? Или иудеи?
Никишка удивился:
– Какие тебе иудеи? Жиды11, что ль?
– По именам получается. И отец твой в шляпе, я помню, – с виду натуральный раввин. Абрам Иосифович, говоришь. И мать, ты сказал, – Наумовна.
Никифор с сожалением посмотрел на Новосильцеву.
– Жидов в нашу веру крестить не можно. Они и сами не пойдут. А имена у нас по Библии. По календарю. На кого какое выпадет.
– Варвара что же – сестра твоя?
Тут парень вздохнул – на этот раз тяжело, переступил на месте и глухо сказал, глядя в сторону.
– Невеста мне. Из Фатеевки. Только сосватали, родители по рукам ударили, свадьбу назначали после жнитвы, и всё. Пропала Варюха.
– Как так пропала?
– Была и нету. Никто не знат. Ты, чай, про чехов ничего не знаешь? Не слыхала?
– Как же. Хорошо слышала… Еле от них вырвалась. Оттого и заболела.
– Тоже своровать хотели? – напрягся Никифор.
– Да. Только не получилось у них, – ответила Новосильцева и поёжилась: перед ней встала картина в теплушке – фонтаны горячей крови из шеи легионера, ветер шевелит волосы убитых. Передохнула. – И где же она может быть, твоя Варя?
Он резко отвернулся, потом глянул на неё заблестевшими ярко-синими глазами.
– Знать неведомо. Искал, как мог… Так они все на поездах. Сегодня здесь, а завтра за три сотни вёрст. Не говорят, смеются, Иваном-дураком кличут. Кабы… – начал он с ненавистью и остановился.
– Кабы что? – спросила Новосильцева.
– Ничего! – выдохнул он. – Не твоё это.
Она медленно покачала головой:
– После того, что случилось со мной… Может стать и моим, – тихо возразила Новосильцева.
– В поездах искать надо, – решительно заявил парень. – Да как? Они на колёсах живут. Мясо коптят в дороге, водку курят, веселятся. Есть такие у них вагоны – срамные. Они туда девок и баб собирают. Кого за деньги, кого обманом. В блудни превращают, в бесомыжниц12. Иных воруют – те насовсем пропадают. И следов не найти. Истреблять их, чехов, – всех! Как волков бешеных, – неожиданно выкрикнул он. – Ужо будет им Чехия, попомнят и Рассею!
Помолчав, спросил хмуро:
– Ты вроде, из военных будешь? Значит, правду говорят, нонче бабы даже на фронте воюют?
– Воюют, – подтвердила Новосильцева.
– И стрелять умеешь? – он глянул на рукоятку браунинга.
– Выучилась, да.
– Хорошо, – сказал он с завистью. И быстро спросил: – Научишь?
– Что, прямо сейчас? – удивилась Новосильцева.
– Нельзя тут, – возразил парень. – Услышат – тебя прогонят со двора, и мне достанется. Потом. Скажу, когда…
Резко распахнулась дверь бани, зазвенела щеколдой от удара в стенку.
На пороге стояла пожилая крестьянка в красном дубасе13, в голубой, вышитой на рукавах сорочке, в тёмно-зелёных полусапожках. На голове – лёгкий плат, похожий на монашеский, но вышитый серебряной нитью по краям, открыто только лицо.

Властно глянув на Новосильцеву, она обернулась к парню и – грозно:
– А ты чевой-сь закатился сюда? Сказано же: не тревожить её.
– Не, маманя, я не сам, – смело заявил Никифор. – Мимо шёл, слышу – зовёт барышня.
– Не тебе тут слушать и видеть. Ты куда направился? Туда и ступай!
– Соломонида Наумовна, миленькая, – взмолилась Новосильцева. – Не ругайте его!
– А что Соломонида? Тебя, девица, никто не спрашиват. Помолчи.
– Как же мне молчать? – жалобно сказала Новосильцева. – Ведь я жизнью вам обязана. Век молиться за вас буду и всю вашу семью, и за Никифора тоже.
Соломонида свысока усмехнулась:
– Молиться? Ты? – и непонятно, чего в её тоне было больше – насмешки или пренебрежения. – Ужо вы нам намóлитесь! Всё от вас имеем. Князь тьмы у нас есть, чехособаки тоже имеются. Одних московских молитв, антихристовых, не хватает.
– Я… – робко сказала Новосильцева. – Я не то хотела сказать… – её снова прошибла болезненная испарина.
– Вот и помолчи, всем лучше будет, тебе – первой, – заявила Соломонида. – А ты, Никиша, ступай. Там Серёнька заявился. До тебя чтой-то у него. В конюшне он, с отцом. А ты, девка красная, – приказала Новосильцевой, когда Никифор закрыл дверь. – Хоч, знаю, и не девка… Сорочку задери-ка.
Положила Новосильцевой на живот широкие, жесткие, как доски, ладони, и затихла, словно прислушивалась. Потом твердыми пальцами аккуратно ощупала Новосильцеву – от груди донизу и по бокам.
– Болит где?
– Вроде бы нигде, – неуверенно ответила Новосильцева.
– Так и надо, пора, – с удовлетворением произнесла Соломонида. – С того света, почитай, вернулась. Не думала я, что из лихоманки выйдешь. Из заражения – по-вашему, по-городскому.
Сейчас, вблизи, Новосильцева разглядела знахарку подробнее. Лет не меньше сорока, но лицо гладкое и матовое, без единой морщинки, только у глаз крохотные лучики. Из-под черных соболиных бровей смотрели необычайно яркие синие глаза. Одета недешево, хоть и по-крестьянски. На груди староверческий крестик без распятия, на листочке, – женский.
Соломонида трижды перекрестилась и прошептала трижды иисусову молитву.
– Нут-ко поднимись, – приказала.
Внимательно осмотрела простыню, кивнула. Провела ещё раз пальцами по рёбрам и снова с удовлетворением отметила:
– Один только Господь спас тебя. И мне чуток помог. Зачем-от Ему ты понадобилась. Не скажешь, зачем?
– Не знаю, – тихо ответила Новосильцева. – Что со мной было?
Соломонида удивилась:
– Совсем память отшибло? Знат, до головы лихоманка дошла. Как еще с разуму не съехала… Выкинула ты. Кровью мало не истекла. Поняла?
– Теперь поняла… Не знаю, как благодарить вас, – произнесла Новосильцева, понимая всю тусклоту и беспомощность своих слов.
– Не знаш? – усмехнулась Соломонида. – А потому не знаш, что вы, мирские, живете вверх тормашками. Да как можно бабу, да тяжёлую, ещё и в армию? Шастать с пистолями. В людей палить. Всё бабское соображение и стыд потеряла. Одна только печка у тебя между ног осталась! И ту закрыть надо.
– Так у меня… – помедлив, тихо произнесла Новосильцева. – Так у меня вышло. Я, правда… на самом деле, пыталась убежать от войны. И… – снова подступили слезы.
– И не убежала, стало быть. Так?
– Не убежала.
– Снасильничали? Чехи, аль белые? Иль красные?
– Чехи хотели. Только не успели. Я из поезда прыгнула. На мосту, в речку. Перепугалась сильно, матушка. И… – она заколебалась.
Соломонида ждала. Прищурилась.
– А с ними что? – наконец спросила.
– Стреляла в них, – всё Новосильцева сказать не решилась.
– Вот оно! – удивилась Соломонида. – И правильно! Око за око. Сказано в Писании: «Возлюбите врагов ваших, но бейте врагов Господних». Порешила кого?
Новосильцева молча пожала плечами.
– Значит, порешила. Прыгала – и ни одной косточки не сломала. Господь над тобой руку простёр, – твёрдо сказала Соломонида. – Всё одно, чешских разбойников тебе опасаться следоват. А здесь у нас тебе бояться нечего, у кержаков-то.
Новосильцева кивнула и поёжилась.
– Можно спросить, Соломонида Наумовна?
– Спрашивай да поживее. Слыхала – пришли к нам.
– Я могу уже идти?
– Коли смерти себе не желаешь, недельки две-три ещё побудешь.
– Мне нельзя так много! – испугалась Новосильцева. – Мне мужа искать надо.
– Найдёшь, как на ноги станешь. Иначе прям на дороге и помрёшь. Только меня при тебе уже не будет. Теперь так-от: сейчас младшую пришлю, Гашку.
– А… позвольте ещё спросить?
– Дозволяю. Только живо.
– Вот вы про меня сказали – «городская»…
– Мирская, московская – уточнила Соломонида.
– Всё равно, не вашей веры – чужая.
– Чужая, – согласилась Соломонида.
– Муж рассказывал: старообрядцы не любят чужих. И к себе даже в избу не пускают.
– А за что же вас любить? – удивилась Соломонида. – Одне беды и хлопоты от вас. А то и хуже: силён Антихрист. Да не вечен.
– Вы меня к себе взяли, вылечили. И приют дали.
– Чего-сь? – прищурилась крестьянка. – Это ты про то, что в бане лежишь, а не в горнице хозяйской?
– Нет-нет, – смущённо заторопилась Новосильцева. – Я о другом…
– О том ты, о том! Знаем мы вас! Так чтоб поняла: баня – самое чистое место. Наши бабы, не как мирские, всегда рожают в бане. И я своих тут всех выводила на свет. На сей же лавке, где ты лежишь. А в избе тебе делать-от нечего. Потому как разные к нам ходят. Не к чему, чтоб тебя видели. Наганы твои, юбки военные. Будешь наша племенница из Перми, если что. У моего там сестра живёт, замужем. За купцом, из мирских. Ты погостить приехала и захворала.
– Я не стесню вас и на шею не сяду. Какие расходы – только скажите. Деньги у меня есть, даже золотые.
– Да уж видели! – отмахнулась Соломонида. И добавила с неожиданной жёсткостью. – Вот что, девка. Нам твого золота не надо. Не заради него ты здесь лежишь. Ещё раз скажешь про деньги – выкину за ворота, как кошку драну. Поняла? Нет, ты скажи – поняла? Повторять не стану!
– Да-да, – улыбнулась сквозь слёзы Новосильцева. – Очень хорошо вас поняла. На всю жизнь поняла. Как кошку.
– Ничего ты не поняла, – вздохнула Соломонида. – Притчу о добром самарянине знаешь? Да где тебе знать, коли даже в свою церкву не ходишь. Не ходишь ведь? Ладно, скажу, может, поймёшь что.
Притчу Новосильцева знала, но решила, что лучше ответить:
– Нет, не знаю, матушка. Расскажите, – и правильно сделала, что соврала.
Потому что Соломонида с удовольствием прищурилась и чуть улыбнулась. И, словно сказочница, заговорила нараспев.
– Ну, слушай. В Библии сказано… Шел некий еврей из Иерусалима. И напали на него разбойники – чуть жив остался. Лежит, несчастный, на дороге, кряхтит, помирает. Идут мимо другие евреи, даже священники среди них. И хари свои в сторону воротят. Идёт самарянин. А самаряне, народ такой в Иудее, тогда с евреями враждовали. Так что самарянин – еврею враг смертельный. И что? Остановился самарянин, вздохнул-от, подумал и перевязал еврею раны. Посадил на своего осла, отвёз на постоялый двор. Лекаря нашёл и даж заплатил – и лекарю, и хозяину двора за постой, пока еврей не вылечится. И отправился-от своей дорогой. Всё. Дошло до тебя?