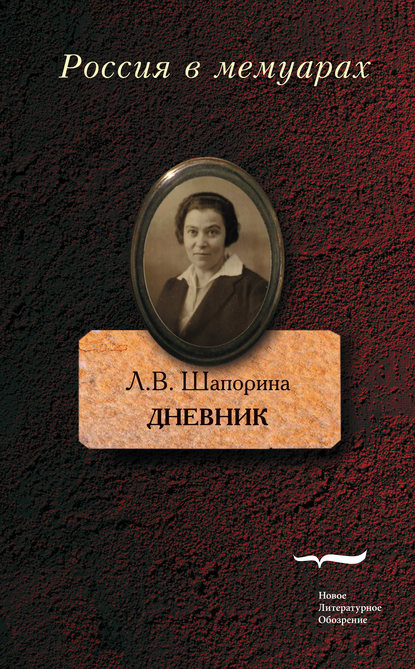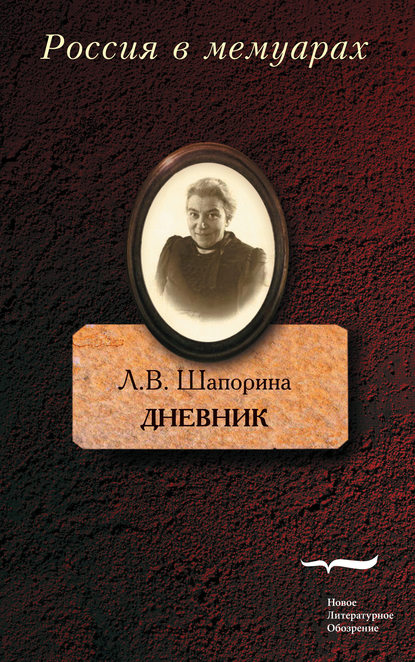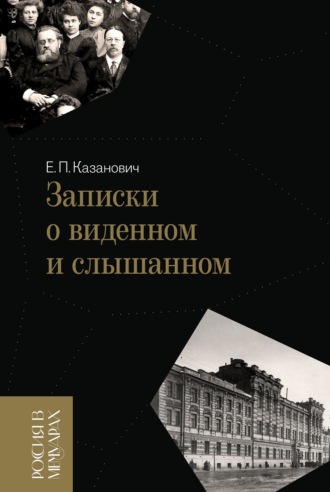
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
Да, откровение творческой тайны в искусстве. Когда мы видим живого человека, особенно если его наружность сколько-нибудь интересна и характерна, мы по одному-двум его словам, по едва уловимым движениям лица и всего туловища, по манере говорить и держать себя – строим целую картину его душевной жизни, его общественного положения, его вкусов и занятий даже. Часто даже слов его не надо, достаточно одного взгляда на него – и картина готова.
В хорошей драме автор дает нам героя. Он указывает нам одну сторону его, обнаруживает перед нами известные переживания героя и в зависимости от силы дарования автора заставляет нас или переживать душевные перипетии героя, или более или менее безучастно наблюдать за ними.
Так – в «Отелло» мы видим страдания ревности, в «Макбете» – страдания честолюбия и пробужденной совести; перед нами открыта одна грань души человеческой, абстрагированы главнейшие черты сущности данной индивидуальности и сконцентрированы в одной точке собирающей чечевицы – в драме. О Макбете мы ничего не знаем, кроме черт, непосредственно указанных нам автором в тех или других словах, точно так же и об Отелло (хотя в «Отелло» уже больше, чем в «Макбете»). Не то в «Лире». Здесь перед нами весь человек, со всеми взаимно переплетающимися и друг друга проникающими гранями. И открываются они нам не в самых словах героя, а в том неуловимом, что существует между словами; одно слово, одно выражение раскрывает перед нами смысл не этого слова, а чего-то, с ним вовсе не связанного, тысячи других слов, имеющих совсем другое значение. Эти поставленные в драме слова являются для нас тем же, чем движения и наружность человека, нами наблюдаемого. И вот тайна заключается в подобном расположении слов в драме. Как всякую тайну, ее нельзя объяснить, ее надо почувствовать. Конечно, не сознательным путем дошел до этого Шекспир, точно так же, как мы не сознательным путем понимаем его и не сознательным путем читаем душу человека, взглянув на него. Эта драма такое же богатство для зрителя или читателя, как интересная, характерная наружность для опытного наблюдателя: мало слов и масса намеков, откуда – обширное поле для деятельности фантазии и воображения.
И в этом тайна искусства.
Может быть, читать «Лира» даже лучше, чем видеть на сцене (я его не видала), т. к. в последнем случае извне навязанной для нас конкретизацией до некоторой степени наращивается творческая деятельность нашего воображения; намек становится фактом и лишает нас наслаждения построения догадок.
Такие же драмы, как «Отелло», «Макбет», на сцене должны только выигрывать, т. к. сценическая обстановка только усиливает определенно и в точных выражениях нарисованную автором картину фактов и этим усиливает их впечатление на нас.
Здесь действует на нас посторонний, внешний относительно нас факт, в «Лире» – факт нашего личного творчества, т. е. нашей внутренней душевной деятельности.
22/II. Не могу не рассказать маленького эпизода, незначительного самого по себе, но очень характерного для участников его.
Сегодня продают «колос ржи» в пользу голодающих150. Подымаюсь на свою лестницу, вижу студента и курсистку с кружкой и пучками колосьев. Они звонят в квартиры по лестнице. У Пергамента151 им опустили что-то тяжелое, кажется, рубль; они поблагодарили и позвонили в другую дверь.
«Сейчас будут у нас, – подумала я, – как-то отнесутся наши Черняки?»
Собственно, я знала наверное, как они отнесутся, и хотела только лишний раз себя проверить. Поэтому когда позвонили, я нарочно пошла в столовую, как бы за газетой.
К сожалению, мне не удалось хорошо услышать, что ответила Лидия Семеновна, кажется, что-то вроде: «Я не знаю… мамы нету дома…» Так мне показалось; на что я ясно услышала скромное извинение пришедших: «Простите», – и затем стук захлопнутой двери.
На вопрос Екатерины Федоровны, вышедшей из кухни, кто звонил, Лидия Семеновна ответила со смехом:
– Какой-то наглый студент с нахальной курсисткой, собирают там на что-то… не знаю… на каких-то голодающих, говорят…
Заметив меня, Лидия Семеновна немного сконфузилась и как бы в оправдание, но с тем же смехом добавила: «Не доверяю я им всем…» – и скорей пошла в свою комнату. А достойная мамаша достойной дочки, всегда очень довольная всеми замечаниями «Лидочки», с умильным смехом повторила, глядя на меня и как бы ожидая одобрения остроумию своей дочки: «“Наглый” студент, “нахальная” курсистка, говорит. Надо ж это!»
Как они мне противны бывают обе порою, и как тяжело бывает пользоваться иногда их любезностью, что неизбежно при такого рода общежитии, как наше; в особенности когда им по 2 месяца иной раз приходится ждать от меня денег. А переехать не могу: при моем неимении определенных доходов я могу жить только у людей, 1) не нуждающихся в моих 15 рублях, 2) знающих, что если я и не заплатила в срок, то я их все-таки не обману и через 2–3 месяца заплачу свое. А где мне найти таких хозяев?
Ну да на будущий год поневоле придется искать комнату, т. к. к ним приезжает Семенугина. Я этому отчасти очень рада, потому что при моей бесхарактерности я бы еще, пожалуй, не переехала сама, несмотря на то что мне бывает противно до тошноты сталкиваться с ними ежедневно. Я не умею постоянно и до конца выдерживать определенное настроение, и хотя мне сейчас они противны, но стоит завтра прийти Л. С. ко мне и поговорить со мной о чем-нибудь интересном для меня – мое отвращение к ней пройдет, т. к. я признаю за ней ум, оригинальность и известную долю остроумия, поэтому в качестве интересной собеседницы она завоевывает мои симпатии.
А прежде, пока я не жила у них, я даже очень любила Л. С. как умного и интересного собеседника и, пожалуй, человека.
«Не понимаю, как может любовь к прекрасному и к искусству уживаться с таким крохоборством», – сказала однажды об ней Островская, когда я как-то в веселую минуту рассказала ей, как происходит топка моей печи. Берет прислуга 8–9 палок дров и кладет в печь. M-me Черняк приходит посмотреть и проверить и, заметив беспорядок и превышение власти со стороны пожалевшей меня прислуги, или сама потихоньку вытаскивает назад 2–3 полена, или ей делает внушение такого рода: «Зачем столько навалила в печь дров? Топиться не будет! Вынь пару полен и отнеси в Лидочкину печку». Однажды я, видя, как прислуга ставит семь самых тонких палок, выбранных в мою печь самой барыней, сказала ей нарочно в присутствии проходившей мимо Екатерины Федоровны:
– Что это вы мне так мало дров принесли, и палки-то еще самые тонкие выбрали, совсем меня заморозить хотите! – на что m-me самым лицемерным образом отозвалась: «И правда, Таня, что это ты поленилась еще дров принести!»
А когда печь была вытоплена и осталось закрыть трубу, m-me сделала распоряжение такого рода: «Возьми-ка жаровню и оттуши уголья из барышниной печки, а то ей очень жарко будет, она не любит». А у меня, по ее собственным словам, градусов 6 с утра!
Что ж, не мытьем, так катаньем, не дровами, так хоть угольями экономию надо нагонять! Ведь Лидочка летом опять не в Испанию, так в Англию захочет; а то икрицы лишний раз купить или ее любимой колбаски можно на эти деньги.
Да, так-то мы живем!
23/II. Немножко чересчур сильно хватила я, обрушившись так на последние произведения Шекспира. Ну да это мне так показалось после «Лира», а теперь я должна сознаться, что и в них есть много силы, правда, совсем другого рода, чем в «Лире». Здесь зло и страсти появляются как бы для того только, чтобы тем сильнее привести человека к познанию добра, и это познанное добро придает кроткий, умиротворяющий колорит произведениям последнего времени, особенно «Цимбелину», «Зимней сказке» и «Буре». Из титанов люди понемножку превращаются в людей. Последний прекрасный взрыв титанизма мы имеем в «Кориолане», и, признаться сказать, – мне жаль, что это так случилось…
Но возвращаюсь опять к «Лиру».
Меня бесконечно удивляет непонимание некоторыми критиками глубокой необходимости – как трагической, так и психологической – и естественности смерти Корделии.
Лир – дуб, который должен или настолько устоять против грозы, чтобы в целости и полной неприкосновенности сохранить все свои роскошные ветви и листья, или же вдребезги сломаться и погибнуть от ее бешеного напора. Лир-калека немыслим, а остаться жить иначе как калекой после всего им перенесенного – он не может; он не из тех натур, которые способны пережить столько нравственных бурь, в корне потрясших все устои их души, и затем остаться счастливо доживать свой век.
Правда, возможно полное нравственное перерождение для таких великих людей; возможно начало новой жизни на новой основе – но для этого Лир уже слишком стар физически, слишком слаб и дряхл телом; долго он не протянет, а в такой короткий срок с таким жалким остатком сил – трудно, да и немыслимо даже, создать (что-нибудь) новое; кроме того, для этого Шекспиру потребовалась бы новая пятиактная драма, а никак не 3–4 странички последнего акта старой драмы. Таковы, на мой взгляд, внутренние, коренящиеся в самой натуре Лира, причины смерти Корделии. Лир должен быть сражен окончательно, и только смерть Корделии, после примирения с ней, может быть таким последним ударом.
Теперь причины внешние.
Судьба часто не знает границ своей щедрости. Сплошь да рядом избирает она себе любимцев, которых, закрыв глаза, засыпает то драгоценными подарками счастья, то колючими шишками горя, постепенно проникающими до самого сердца. Уж если она принимается кого бить – так добивает до конца: это ее обычное дело.
Конечно, такая борьба с судьбой не на живот, а на смерть выпадает только на долю сильных людей. С людьми обычными судьба может поступать так, что сегодня похлопает их легонько, завтра погладит – и все будет прекрасно. С Лиром не то: его надо или победить, или самой перед ним склониться. Но последнее невозможно: все же судьба сильнее людей. А для победы над Лиром она должна вооружиться не щипками, не легким похлопываньем, не цыканьями, от которых смиряются маленькие люди и боязливо лезут под стол, – нет, она должна иметь для них наготове холодную сталь, (делающую) дающую кровавые раны, глубокие, смертельные.
Такими ранами были: оскорбления его гордости, оскорбления его родительских чувств, оскорбление его властолюбию и пр. и пр. Мучительное сознание своей вины перед Корделией – бывшее еще одной из самых сладких ран, т. к. она отнимала в одном и возвращала в другом – и, наконец, последняя – смерть Корделии.
Каков был бы конец шекспировской трагедии, если бы Лир опять воцарился на престоле и мирно зажил бы с покорной дочерью? Да это была бы такая конфетная мелодрама с концом к общему благополучию как действующих лиц, так и слабых зрителей, которая могла бы быть достойна только тех авторов, которые тем и кончали свои пьесы о Лире, но никак не Шекспира! Ведь для Шекспира это значило бы, что художник сам побоялся идти до конца в своих переживаниях и, пожалуй, по тем же причинам, по которым его Гамлет побоялся кровавой мести, т. е. по малодушию. Но Гамлет хоть до конца, до последней минуты сознавал свою неправоту, проклинал свою трусость и позорную слабость, боролся с собой – у Шекспира даже и этой борьбы не было бы: он просто засунул бы себе и публике в рот конфетку, как малым детям, чтобы заставить их забыть об ушибе на лбу.
Только я думаю, что нашлись бы все-таки зрители, которым она показалась бы горче ревеня152, и они ее выплюнули бы с отвращением.
Слава Богу, что Шекспир этого не сделал и не слыхал добродетельных критиков. И так он некоторой условной добродетелью несколько нарушил цельность впечатления глубокой жизненной правды своей пьесы. Я говорю об обращении Альбани, раскаянии Эдмунда и последних выступлениях Эдгара; но это отчасти простительно, т. к. нужно было для его развязки. Хотя, откровенно говоря, ее можно было закончить иначе, без оповещения зрителей о том, что случится с остальными действующими лицами.
Зато сильно заслуживает упрека заключительное «пророчество» шута во 2‑й сц. III д. Впрочем, оно до такой степени нелепо здесь, безвкусно и не умно в художественном смысле, что вряд ли принадлежит самому Шекспиру, и вернее всего, что внесено в пьесу или усердным актером, или кем-либо из издателей, как предполагают некоторые комментаторы.
Но вот одна ошибка в трагедии уже собственно шекспировская: страшно грубы и совершенно недопустимы с точки зрения современной эстетики сцены вырывания глаз у Глостера; нас они отталкивают и потому производят впечатление обратное тому, которое должны бы вызвать и которое является целью произведения искусства. Реализм никогда не должен переходить известного предела, и как читатель, так и зритель непременно должен быть окружен атмосферой некоторой иллюзии. Повествовательная литература имеет в данном случае несколько больший простор в силу того, что имеет дело с нашим ухом и мысленным оком, изобразительная же литература – какова драма и трагедия – действует непосредственно на глаз, в чем, вместе с другими обстоятельствами, и заключается сущность сцены и ее тайн.
Только что вернулась с панихиды по Фаусеку, бывшей у нас на Курсах по случаю постановки мраморного бюста Виктора Андреевича на место стоявшей до сих пор гипсовой модели.
Я пришла, когда панихида уже началась.
В крайнем углу направо стоял, по обыкновению, аналой, и оттуда неслись звуки панихидного пения. У левой стены между окнами, под лепной надписью на потолке «Зоология» стоял на фоне двух-трех зеленых пальм новый бюст. Все шторы были спущены и горело электричество, что придавало особенно мирный и внешне торжественный вид нашему залу, переполненному курсистками.
Очень я люблю звуки панихиды; они меня всегда настраивают особенно глубоко и торжественно, задевают лучшие струны моей души. Зато как неприятно бывает то, что следует обыкновенно за ней в таких больших разношерстных собраниях. Точно если бы рядом с какой-нибудь мадонной поставить порнографическую картинку. Это грубое сравнение, но на меня именно так действует смех и веселые посторонние разговоры сейчас же вслед за панихидой. Насколько она прекрасна и возвышенна, настолько низменны всякие проявления земной радости при ней… Не в осуждение курсисткам это говорю: без таких явлений не обойтись в толпе.
По окончании панихиды, – должно быть, наш курсовой старичок Велтистов, судя по голосу, – начал кропить бюст, а слушательницы запели вечную память; хотя и слабо, и в унисон, но чувствовалось многоголосие, соборность, и это расширяло все чувства, раздвигало души. Люблю я такое пение, только, конечно, если нет диссонансов, а тут их не было. После «вечной памяти» одна из слушательниц прочла письмо бывшей курсистки, малоинтересное и очень обыкновенное по фразам, произносимым ею об В. А., и чувствам, в нем отраженным. Затем маленькая Дьяконова прочла стихотворение, из которого я ничего не слыхала, кроме одного слова «женщины» и «женщинам», из чего заключила, что оно на ее излюбленные женские гражданские мотивы, в какой-то связи с В. А., т. к. она явно обращалась к его бюсту; и напоследок с кафедры было предложено идти на лекцию Котляревского 26-го, сбор с которой назначен на стипендию имени В. А., и покупать сборник его памяти.
После этого часть курсисток начала расходиться, часть, обнявшись по двое и по трое, принялись шагами измерять зал, а часть подошла к бюсту.
Здесь я услышала только возгласы всеобщего неудовольствия, да и было от чего. Хуже и обиднее что-нибудь трудно себе представить!
Ни одной черты Фаусека, ничего, что бы говорило об умном, спокойном, мягком и бесконечно добром В. А. Скульптор (который-то из учеников Беклемишева) только и подметил во всей его наружности прядку волос, спускающуюся на лоб немного по-гоголевски, больше здесь не было ни одной черты В. А. – Уж лучше было бы совсем не ставить никакого бюста. Нам, знавшим лично Фаусека, он не только не говорит ничего, но просто неприятен, т. к. является искажением милого образа В. А., прикосновением будничной рукой к тому, чего касаться можно только после молитвы, если можно так иносказательно высказаться; новым же поколениям нашим он даст совсем ложное представление о том, кто так долго был душой курсов. А обошлась эта затея в 550 р. по отчету. Лучше уж было бы ограничиться простым портретом, увеличенным с хорошей фотографии, а остальные деньги передать на стипендию, чем ставить такой бюст153.
Это одно из проявлений нашего курсового мещанства или непонимания, недоразвития: хоть плохо, хоть карикатурно, да сделать то, что делают другие.
Такое же мещанство и на балах наших и на многом, чего я не переношу.
Из «дам»154 я видала одну только Нечаеву, из профессоров – Ростовцева, Кареева, Булича, Сердобинскую, Савича и еще одного, не помню только кого155.
24/II. Открываю V т. Шекспира и сразу натыкаюсь на заглавие: «Шекспир-Бэконовский вопрос»156.
Припоминаю, что когда-то от кого-то слыхала, что существует предположение, что автором шекспировских драм был вовсе не Шекспир, а Бэкон, философ, основатель эмпиризма.
Неужели еще держится такое мнение в науке? Неужели может существовать Шекспир-Бэконовский вопрос?
Какая нелепость! Уж не говоря о том, что один был философ, следовательно, должен был мыслить отвлеченно (или, кажется, говорят иначе – символами?); другой был художник и поэт, следовательно, мыслительный аппарат его действовал при помощи образов, уж не говоря о двух совершенно различных психологиях, которые мы должны предполагать у этих людей, – неужели мы считаем Бэкона каким-то сверхчеловеком, особенным фаворитом и баловнем судьбы, что она наградила его двумя жизнями.
А ведь для того, чтобы вырастить в себе все то, что написано Бэконом, вместе с тем, что приписывается Шекспиру, одной жизни мало, тем более что и жил-то Бэкон не Бог знает сколько: 65 лет (1561–1626).
Если трудно предположить, чтобы сын мясника из Стратфорда, не видевший до 22–23-летнего возраста ничего, кроме лавки своего отца с ободранными вонючими шкурами и окровавленными тушами, и других книг, кроме лавочных записей – как не без остроумия высмеивает его Марк Твэн, – вдруг обнаружил такое обилие всевозможных знаний, которые открываются перед нами в произведениях Шекспира157, – то в тысячу раз труднее предположить, чтобы за 45 лет (20 лет из бэконовских 65-ти оставляю на рост и созревание) можно было дать два таких колоссальных, притом в корне противоположных друг другу вклада в умственную и литературную жизнь человечества, как творения Шекспира и Бэкона.
Говорю и еще раз повторяю – в корне противоположных друг другу, т. к. это два разных творчества, требующих два различных склада ума, две различные психические индивидуальности. От серьезной и напряженной работы теоретической мысли еще можно перейти в виде отдыха к легкому рифмованию, стишкам для потехи себя и других, но до обеда писать: «De dignitate et augmentis scientiarum» или какой-нибудь «Novum organon»158, а после обеда – «Лира» или «Гамлета» – невозможно.
Во-первых, как то, так и другое требует полного проникновения человека собою, и такое деление: до обеда я философ и думаю de dignitate et augmentis scientiarum, а после обеда перестаю им быть, забываю все, о чем думал с утра, и начинаю думать о каком-нибудь Фальстафе или Ричарде III. Нет, уж если меня интересует какая-нибудь мысль, если передо мной стоит какой-нибудь образ, так уж я буду думать об нем и с утра, и с вечера, и за обедом, и во сне, и в любую минуту дня. Я, конечно, могу отвлечься, пойти для отдыха в таверну «Сирена»159 и за стаканом вина болтать с приятелями всякий вздор, но я не возьмусь в виде отдыха от «Лира» за «Органон» и наоборот.
Во-вторых, оба эти рода произведений обнаруживают две огромные области совершенно различных между собой знаний, приобретавшихся, конечно, постоянным чтением. Спрашивается, откуда же бралось на все это время, если даже предположить, что сверхчеловек Бэкон не спал вовсе, не ел, не умывался и не переодевался?
Разве, признав его сверхчеловеком, допустить возможным для него все невозможное для простых смертных, хотя бы они были и гениями.
Но мы можем повести свою аргументацию еще и из другого источника.
Отрешившись от всякого знакомства с биографией автора интересующих нас произведений, допустив, что все 5 томов этих комедий и драм мы однажды выкопали в театральном архиве Лондона без малейших намеков на личность автора, – попробуем всмотреться в них повнимательнее.
Известный духовный облик автора предстанет пред нами.
Чем дальше, тем больше встретим мы личных черт, разбросанных то там, то сям по этим произведениям, и дух мало-помалу начнет принимать телесную оболочку. Струны собственного сердца автора почувствуются всяким мало-мальски чутким человеком даже в самом объективном произведении, если автор хоть сколько-нибудь дал ему свободно биться и этим невольно извлекать звуки из его струн.
Шекспирологи давно откопали эти личные элементы в разных произведениях Шекспира и на основании их выводят, что 1) автор был человек, невысоко стоящий в обществе; 2) что благодаря этому он нуждался в покровительстве знатных (посвящения гр. Соутгемптону); 3) что он был актер и страстно любил свое ремесло («Гамлет»); 4) что вместе с тем он им часто тяготился, ввиду клейма, накладываемого благодаря ему обществом на человека (29‑й, 111‑й, 110‑й, 66‑й сонеты).
Бэкон ни в чем этом не нуждался, и его душа поэтому не могла исторгнуть из себя подобных звуков: он сам мог оказывать покровительство другим, сам мог налагать пятно позора на актеров.
Наконец, не будучи актером, Бэкон не мог проявить подобного знания сцены и тайн драматического искусства, что возможно только для человека, тесно с ней сросшегося.
Поэтому все, что нам теперь известно под названием Shakespeare Works160, ни в коем случае, по-моему, не могло принадлежать Бэкону, и – вероятнее всего, Шекспиру и принадлежит161.
Еще одно: Бэкон, мы знаем, был протестантом, как мог бы он вывести фигуру Мальволио и др. пуритан? Для Шекспира же, как для католика, это было вполне возможно.
25/II. Слава тебе, Господи! Вычитала у Стороженка, что Шекспиро-Бэконовский вопрос провалился давно.
Теперь вот в чем дело касательно завещания. Как ни заманчиво для всех, желающих реабилитировать память Шекспира относительно его поведения с женой, как ни желательно объяснить с этой целью пункт, оставляющий ей «вторую по качеству кровать, с принадлежащей к ней утварью», таким образом, что по закону ей принадлежит 3‑я часть имущества, а кровать – просто сувенир, такой же, как кольца друзьям, серебряные чаши и пр. и пр., – (но) мне кажется, что сделать это сколько-нибудь правдоподобно и без натяжки можно только в том случае, если нам известна цифра стоимости всего его имущества. Если она известна, то дело решается наверняка, и нет надобности в каких бы то ни было оправданиях и реабилитации: стоит только подсчитать стоимость имущества, поименованного в завещании, и определить, будет ли оно равняться только ⅔ или всему состоянию Шекспира.
По моему приблизительному подсчету вышло, что Шекспир завещал своим разнообразным родным и приятелям – больше всего дочерям – около 380 фунтов стерлингов деньгами, и недвижимого имущества: 3 дома в Стратфорде, дом в Лондоне и различные земли, гумна, сады и пр. и пр., существующие и могущие быть приобретенными в Варвикширском округе.
Судя по выражению перевода завещания, недвижимого имущества, кроме переименованного в завещании, у Шекспира не было, и вопрос может быть только в том, оставался ли у него еще капитал кроме 380 фунтов стерлингов и равняется ли он трети всего его как движимого, так и недвижимого имущества.
Насколько я знаю, никаких известий на этот счет в науке нет, значит, наверняка решить вопрос нельзя, однако следующее обстоятельство заслуживает внимания.
Основываясь на завещании, мы можем сказать утвердительно, что недвижимого имущества Шекспир жене не оставил, и если она и получила что-нибудь, то только деньги да пресловутую «вторую по качеству кровать с принадлежащей к ней утварью»… Дар, конечно, почтенный, но если бы Шекспир любил жену и хорошо к ней относился, могло ли бы случиться, чтобы он не оставил ей ни одного из тех углов, в которых она провела свою жизнь? Старому человеку дом и комната, в которой прошла молодость (хотя бы и не первая) и счастливые месяцы супружества, которая хранит в себе все воспоминания, связанные с началом новой жизни, бывает дороже груды золота, и противными могут быть стены, в которых прошла вся жизнь, только в том случае, если они знают больше худого и тяжелого, чем хорошего. И вот напрашивается самый естественный вопрос: если последние годы их совместной жизни прошли мирно и хорошо, как могло быть, чтобы жена не пожелала сохранить за собой все, что связано с этими последними годами жизни, все, что окружало ее и ее великого знаменитого мужа, наконец вернувшегося к семье, и мог ли бы в таком случае Шекспир не оставить ей их насиженного гнезда прежде всего? Конечно, могло случиться, что он с ведома и согласия жены не оставил ее хозяйкой того угла, в котором она всю жизнь свою была ею; могло, конечно, случиться, что она не пожелала сама иметь ни одного из его любимых предметов обихода, вроде «серебряной вызолоченной чаши», кольца с собственного пальца или кресла, в котором писались последние произведения, но это предположение нам кажется недопустимым для тех, кто считает, что мир и любовь царили в последние годы жизни Шекспира с женой. Где жила жена Шекспира после его смерти? В доме дочери или, может быть, у своих родных, там, откуда взял ее Шекспир в Стратфорде?