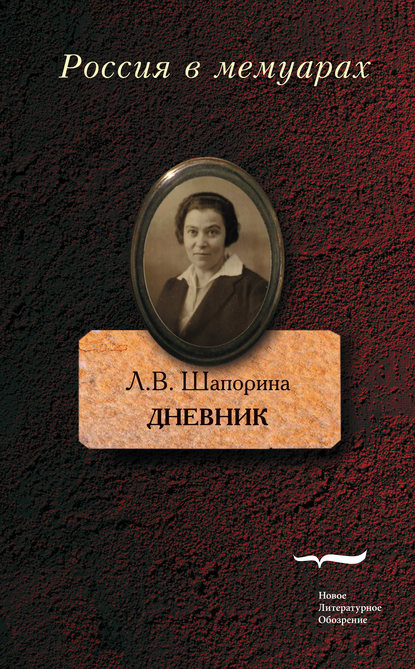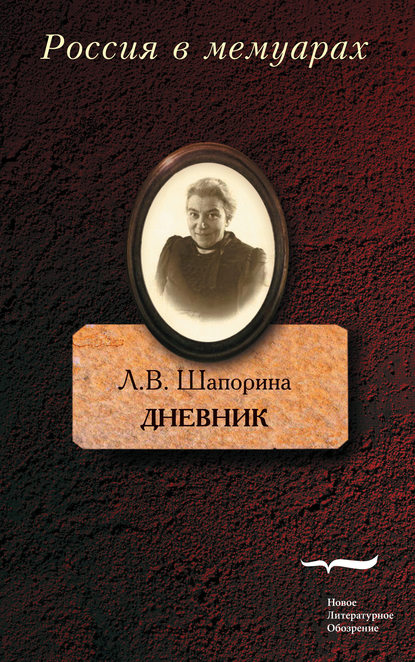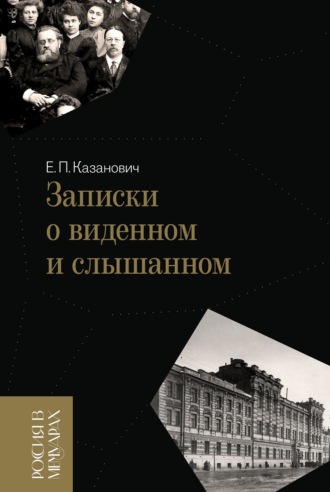
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
29/I. Прекрасно написала Лефлер о Софии Ковалевской131! Прекрасно, ярко и вместе – мучительно для себя самой – сгоревшая жизнь. Вот участь гениальной женщины: неизбежная борьба между сердцем и умом.
Впрочем, может быть, я пристрастна в этом случае, но мне всегда кажется, что для всякой женщины, как бы гениальна она ни была, наступает роковой момент, когда сердце берет перевес над всякими другими стремлениями и жажда личного счастья убивает все прочие стремления, как бы сильны и могучи ни были они. Сосуд слишком слаб, не выдерживает брожения сердца…
И опять, по своей всегдашней привычке находить в себе сходство со всеми, мне кажется, что моя натура и мой характер близки к С. Ковалевской, несмотря на всю прекрасно мною понимаемую разницу масштабов. То, что о ней сказала Лефлер, очень много выяснило мне во мне самой, чего я до сих пор не понимала. Да, мне кажется, и во мне есть такая же страшная жажда любви, такое же желание отдаться любви и вместе – неумение, невозможность сделать это вследствие своего характера; и мои духовные силы расцветают, чуть только является какое-нибудь подобие любви или увлечения; и я понимаю сладость работы вдвоем; и я нуждаюсь в опоре и нравственной поддержке другого, более сильного, любящего существа, несмотря на достаточную самостоятельность моего характера (смею это последнее сказать о себе); и я никогда не буду любима так, как я хочу: я это знаю, чувствую…
31.I. Как обидно за Фальстафа в «Виндзорских проказницах»! Лучше б уж Шекспир не писал их или они бы не дошли до нас.
Среди всех бесцветных объяснительных статей к пьесам Шекспира брауновская к «Генриху IV» и «Виндзорским проказницам», по моему мнению, лучшая; она тоже нарисовала Фальстафа, совершенно верно им понятого по Шекспиру132.
А вот любопытно. Мы знаем, что сюжет к «Конец всему делу венец» взят из «Декамерона», но не почерпнул ли его Боккачио в свою очередь от Гросвиты? Мы знаем у нее одну пьесу (заглавие не помню) с подменой одной женщины другою на брачном ложе; или, может быть, этот сюжет был распространен еще и до нее133?
Тоже бросилось в глаза едва уловимое сходство сцены прохождения Чичикова с Маниловым в дверь с сценой I действия I «Виндзорских проказниц», когда Пэдж, Слендер и Анна уступают друг другу дорогу и спорят, кому первому войти в дверь.
Еще более мимолетное, скорее по настроению, чем по содержанию, сходство в начале разговора мистрисс Форд с мистрисс Пэдж в I сцене действия II. Когда мистрисс Форд вошла к последней и началось щебетанье, так и вспомнилась сцена «дамы просто приятной» с «приятной во всех отношениях».
Ведь «Виндзорские проказницы», кажется, давались в то время на сцене Александринского театра, и очень может быть, что Гоголь слегка, может быть, даже незаметно для себя, попользовался ими134.
Я не удивлюсь тем, которые будут считать Мальволио центральной фигурой «Двенадцатой ночи». Конечно, это новый тип шекспировской галереи до этих пор. Все прочие лица этой комедии имеют уже себе предшественников в прежних произведениях Шекспира, Мальволио же – новый герой, и обрисован великолепно, так что, действительно, он сосредоточивает на себе главный интерес читателя. Все равно как в «Генрихе V» два героя: он сам и Флюэллен. Оба великолепны; Генрих великолепен как театральный герой, как идеальный тип, Флюэллен – как живое лицо. Каждое слово в нем идет от его плоти и крови. Только – да простится мне на небе умных и ученых то, что я сейчас скажу, – не знаю, каков Флюэллен как валлиец, каким он изображен Шекспиром; а как немец – он образец совершенства; и я все время принимала его за немца, не обращая внимания на замечания его, говорящие о месте его происхождения, пока не прочла Морозова135. К сожалению, совсем не могу себе представить типа валлийца, и для меня все во Флюэллене говорит за немца, честного, немного упрямого, благородного немца, живущего идеалами, преклонением перед долгом, античными правилами военного искусства и дисциплиной. Впрочем, в статье Морозова он объяснен очень хорошо.
Вот теперь, когда я перечитала уже все ранние пьесы Шекспира, от них осталось хорошее впечатление в душе, несмотря на много недостатков, отмечаемых во время чтения. Наступил второй период – сознательное творчество, когда чувство введено в границы рассудка, предварительного размышления и обдумывания; там же, в начале, оно бьет ключом, иногда через край, но зато всегда горячо, молодо и поэтично. Это сильно подкупает в на (не помню, что хотела сказать: прервали).
Там одна только творческая сила, бессознательная, как подземный ключ, фонтаном взлетающий вверх, искрясь и переливаясь на солнце мириадами цветов и оттенков, – одна только она выводила на свет все эти чудесные строки, строфы, неподражаемые поэтические образы, меткие сравнения, определения, метафоры, бесчисленными брызгами засыпающие нас при чтении. Те пьесы дают нам понятие о том богатстве и разнообразии шекспировского словаря, о котором мы привыкли слышать, как о первом в мире в устах одного человека. Творческая сила не стеснена там ни рассудком, ни трезвым критическим отношением; эти факторы и там, конечно, действуют, но так же бессознательно, как берега, сдерживающие поток бурного ручья. Там Шекспир богат и многоцветен, как персидская шкатулка или мавританский стиль; там он красочен – как роскошная тропическая прерия, там он молод и прекрасен – как бог Аполлон.
1/II. Прекрасное начало и скверный конец в комедии «As you like it»136; даже обидно, право! С самого появления Оливера в лесу с его добродетельной речью, и прихода Жака де Буа с новостью об оставлении Фридрихом престола – пошла неестественность, да и действие все скомкано совершенно. И это в комедиях (и вообще в пьесах, пожалуй) Шекспира встречается довольно часто: скорей, скорей, нагромоздить счастливые браки и скорей покончить с пьесой. Я думаю, что это происходит оттого, что Шекспиру они надоедали к концу и он спешил их окончить как-нибудь. Вероятно, он не любил много трудиться над этой работой, много обдумывать (за исключением нескольких особенно любимых детищ своих), много переделывать и много копаться в мелочах. Сначала творилось по вдохновению, увлечение было критиком и цензором, но к концу пьесы увлечение проходило и выступал на сцену обычный шаблон, чтоб только поскорее развязаться с надоевшей пьесой, как ласковым тоном стараются прекратить упреки и жалобы надоевшей до смерти жены.
А начало этой пьесы – сцена двух братьев де Буа, затем сцена двух кузин, первые сцены в Арденнском лесу – превосходно, полно поэзии, творческой фантазии и художественной обрисовки характеров и положения.
3/II. Как, неужели мне бросать курсы и браться за пробу своего пера, как говорит Нестор Александрович? Бросать курсы?
– Чего вы ждете, – говорил он мне. – Раз вы хотите пробовать писать, так пробуйте скорей, не теряйте времени напрасно. Годы идут!
Знаю и сама, что идут годы, (5/II) да для моего собственного спокойствия мне необходимо курсы кончить.
Кроме того, я сказала, что оно, может быть, и лучше, что я все это время была занята курсами, а не писательством, что за это время ум мой больше созрел, расширился кругозор, явилось знание людей, умение объективно относиться к ним, а значит, может быть, и к темам своего писательства, наконец – явилось большее знакомство с литературой, понимание задач ее, определенное собственное отношение к ней и, главное, известный критический вкус.
– Все это прекрасно и совершенно правильно, – заметил Нестор Александрович, – но только знаете что. Лет тридцать тому назад сидели мы в небольшой компании, и Пыпин был с нами. Он и говорит мне: «А что бы вам, Нестор Александрович, написать теперь книгу о Лермонтове; вот подходит его юбилей, оно бы и кстати было». – Я тоже, как и вы, стал отговариваться под разными причинами: и материалу еще мало, и со временем будет у меня более зрелое отношение, и все в таком роде. А потом взял и попробовал написать, и теперь, конечно, нисколько не раскаиваюсь137.
Я только и могла ответить, что огромная разница между нами и нашими положениями в момент, о котором говорится.
Между прочим, Н. А. мне как-то вскользь сказал:
– А вы думаете, моя жизнь сложилась так, как я этого желал? Я вовсе не мечтал о научной карьере и не к науке вовсе стремился.
На мой вопрос: «К чему же?»
– Да тоже, пожалуй, к писательству. Вот как вы теперь, мечтал написать пьесу, и вообще писать в области беллетристики. Вот теперь мои писания меня и не удовлетворяют, приходится подыскивать себе разные посторонние вещи, чем бы увлечься. Вот последним таким предметом увлечения был театр, когда я взялся за это директорство138, а теперь вижу, что из этого ничего выйти не может: сделать там сколько-нибудь по-своему я не могу; создать что-нибудь – тоже не могу: я там связан по рукам и ногам. Хотя и считается, что репертуар в моей власти, но фактически я связан и в выборе пьес. Дело в том, что та труппа, которая имеется в Александринском театре, вся сыграна на бытовые пьесы, которые у нее, надо сознаться, идут прекрасно, значит, что-нибудь вроде Шекспира, Шиллера или другого чего – поставить невозможно, иначе получится провал, как в прошлом году в «Гамлете»139.
– Так почему не набрать новых артистов специально для классического репертуара?
– Помилуйте, куда же еще набирать, когда и так 100 человек в труппе! Я предлагал директору140 такую комбинацию: откупить Суворинский театр141 в казну и подобрать там труппу исключительно для пьес не бытовых: драм, трагедий, исторических хроник, да вот сколько уж лет твержу об этом, и все безрезультатно.
– И неужели из всех 100 человек нельзя выбрать сейчас подходящих артистов, чтобы поставить, ну, например, «Генриха IV» Шекспира? Фальстаф уже есть готовый – Варламов142, хотя, конечно, можно было бы желать гораздо лучшего.
– Это во-первых. А во-вторых, Варламов отказывается учить новые роли, говорит, что у него уже память слаба. Теперь если ему и приходится играть что-нибудь новое, он все от себя несет и из роли мало что остается, ну а с Шекспиром. согласитесь, так поступать нельзя. Кроме того – я, между прочим, сам думал о «Генрихе IV» для Михайловского театра143 – для постановки такой пьесы нужны средства громадные, каких у нас нет.
– А нельзя разве поставить упрощенным способом, приблизительно по-шекспировски?
– Наша публика не пойдет. Еще препятствие – время. Репетировать такую пьесу надо по крайней мере месяца 2–3, не меньше, а мы должны поставить 12 новых пьес в году, иначе сбору не будет. Мы не можем ставить две пьесы в год, как это делает Московский Художественный театр; мы не обладаем таким именем, которое собирало бы к нам валы народу на все, что бы мы ни поставили. Поэтому с двумя пьесами прогорим. Ведь вот приблизительно для такой цели я выделил труппу, играющую в Михайловском театре, но это – молодежь, во-первых, а во-вторых, сборы полные потому, что играют там не каждый день.
Потом заговорили о постановке «Гамлета» у Станиславского144. Н. А. сказал, что он слышал, что идет скучно:
– Вообще ведь скучная пьеса, надо уж сознаться. Все лучшие монологи мы знаем наизусть, а на сцене все ждем, ждем чего-то, действия, и его нет.
Между прочим, я сказала, что многому научилась от Шекспира тому, что требуется от пьесы.
– Разве, вот уж не думал! Несценичнее Шекспира трудно себе что-нибудь вообразить, и если мы его ставим – приходится делать переделки и поправки. Странно говорить – поправлять Шекспира, а между тем это так.
Ну уж еще, чтобы покончить с Н. А. и засесть за чтение, прибавлю, что, когда я с ним утром разговаривала по телефону, мне показалось, что у него очень расстроенный и меланхолический голос. Вечером я и спросила его, что с ним.
– А уж это моя обычная история: на меня временами находит страшная меланхолия на несколько дней, и я тогда обыкновенно никуда не выхожу, сижу один запершись, чтобы никого собой не заражать. Это у меня так уж с самого детства идет. Сегодня вы меня только случайно видите, я не хотел ехать.
Ну, правда, нет ли – Бог его знает; а только по тому, насколько я его знаю, никогда не предполагала, чтобы это могло с ним случаться.
Впрочем, как понимать его меланхолию, что это такое? Если просто хандра от скуки, какая бывает у избалованных детей и людей, всего в жизни испытавших, – тогда пожалуй; а чтобы он серьезно тосковал и болел душой, все равно от каких причин, как я понимаю меланхолию, – не думаю; слишком он спокоен по натуре и трезв, как мне кажется, хотя он часто и говорит, что был в молодости горячим, увлекающимся и «задорным».
Поверим ему на слово!
Еще одна любопытная фраза Н. А., не помню, по какому случаю сказанная:
– Это все равно как лекция: прочтешь научно – говорят «скучно». Прочтешь интересно – говорят «ненаучно»… – Любопытное в его устах замечание, а понимай его как знаешь!145
Я и не говорила, что в четверг, 2-го, у меня был-таки Данилов, и лучше бы он не приходил: я считала его гораздо интереснее, как тип.
Во-первых, он, конечно, рисовался передо мной, и эти его оригинальничанья в большинстве случаев не что иное, как рисовка, как я теперь убедилась.
Во-вторых, у него есть своего рода мелкое тщеславие и вообще мелочность, что мне показалось особенно неприятным и обидным за него.
В-третьих, это – полнейший тип недоучки, нахватавшегося отовсюду по кусочку и превратившего эти кусочки в полнейший хаос и сумбур мыслей и чувств. У него, правда, бывают интересные и оригинальные выводы из своих наблюдений над жизнью и людьми, но, во-первых, я увидела, что наблюдать он не всегда умеет объективно и беспристрастно, а во-вторых, отрицать того, что он человек способный и неглупый от природы, я не собираюсь и сейчас. А все-таки туман и самолюбование отрицать нельзя.
Жаль, прежде мне он был интереснее, да и у Пругавина он держался больше начеку, а тут, вообразивши, вероятно, что я вижу в нем какое-то откровение или по крайней мере пророка и учителя жизни, – он и пошел вырисовываться вовсю. Что ж, мне это и нужно было! Я хотела узнать его, и узнала главную черту его характера. Я нарочно не мешаю людям обнаруживаться передо мной в таких случаях и часто даже поощряю их в этом, наблюдая, до каких пределов может доходить известная черта. Все равно какая.
Но ах, Боже мой, как меня мучит одна мысль. Я не могу ни спать, ни заниматься, ни читать, ни писать. Стоит поднять голову от книги – она передо мной; стоит положить перо и задуматься – она сейчас же незаметно втирается в остальные мысли и через секунду становится уже господствующей; стоит лечь в кровать – но сон и не подступайся. Тут она уж полная владычица и госпожа.
Право: «Хожу ли я, брожу ли я, – Все Юлия да Юлия…»146
8/II. Некоторые критики говорят, что Гамлет вначале горюет только о смерти отца и непостоянстве матери, не предполагая никакого преступления. По-моему, это совершенно неверно и на основании текста, и на основании некоторых априорных соображений.
Мог ли бы Гамлет так тосковать и отчаяться из‑за этих двух причин? Положим, отца он любил; положим, тяжело разочароваться в матери; но ведь он все же мужчина, молодой, наследник престола, у которого вся жизнь еще впереди; он любит Офелию и не имеет пока никаких причин подозревать ее в дурном.
Может быть возражение, что разные бывают характеры, и для одних, пессимистов и скептиков, по правде, достаточно малейшего толчка, малейшего повода, чтобы разрушить все основы мира и превратить вселенную в хаос, мрак и скопище зла и дьявола. Но Гамлет, мне кажется, не совсем такой; с этим одним горем он сумел бы еще справиться и не видеть себя находящимся всецело во власти зла, опутавшего весь мир своими сетями.
Все же, дело, по-моему, в том, что уже в начале своего появления на сцену Гамлет подозревает что-то неладное в смерти своего отца. К дяде он относится недружелюбно с первого же слова, и не из‑за того только, что он занял отцовский престол и женился на матери: смутно Гамлет чувствует в нем своего личного врага и недоверчиво относится к его ласковому обращению: «поближе сына, но подальше друга»147, – вот что является у него ответом на приветливое обращение дяди. Чувствуя в нем личную вражду, Гамлет неясно должен чувствовать, что она стоит в какой-то связи с престолом, а может быть, и с умершим отцом, смерть которого произошла достаточно внезапно для того, чтобы не мочь возбудить, на благоприятной почве, подозрений. Не допусти мы такого предчувствия, как объяснить столь быструю почти уверенность в наличности злодейства, явившуюся как следствие одного лишь слуха о пришествии тени отца?
Неловко что-то здесь: я злые козниПодозреваю!..Злодейство выступит на свет дневной,Хоть целой будь засыпано землей, —говорит Гамлет после ухода Горацио и офицеров (д. I, сц. 2).
А на вопрос королевы: «Что ж тебе тут кажется так странно?» (т. е. что смертный отец умер) – Гамлет отвечает: «Нет, мне не кажется, а точно есть» и пр.; затем заключительная фраза монолога по уходе короля и королевы: «Тут нет добра и быть его не может».
Впрочем, эти две цитаты могут быть объяснены иначе, контекстом, который я, к сожалению, не знаю по-английски, но восклицание Гамлета после сообщения Горацио о тени – при другом толковании будет непонятным и психологической натяжкой.
С другой стороны, изумленье Гамлета при первом слове тени о мести является вполне искренним и говорит как бы о внезапности открытия. Но это только кажущееся впечатление: это изумление, связанное с ужасом, гораздо больше говорит о том, что человек, втайне подозревавший что-то ужасное, вдруг слышит подтверждение своих догадок и пугается как оттого, что то, что он считал возможным и вместе невозможным вследствие чудовищной ужасности его, оказывается действительным; так и оттого, что в то же время принимает это как новое сообщение, т. к. сам в нем себе никогда не признавался вполне отчетливо и до конца, а только чувствовал, как что-то смутное.
Для чего он так страстно рвется за призраком, если не думает услышать от него раскрытия тайны? При словах тени: «И отомстить, когда услышишь…» Гамлет настолько парализован внезапно появившейся уверенностью в истинности своих подозрений, что может воскликнуть только одно: «Что?» – выражающее и ужас, и отчаяние, и негодование, и нетерпение вместе с боязнью услышать дальше. Второе восклицание: «О небо!» – выражает уже одно отчаяние. Реплика: «Убийство?» – произносится почти машинально, беззвучно, когда ужас парализовал всякую интонацию.
Дальше Гамлет уже оправился и загорелся злобой, жаждой мести, нетерпением узнать все до конца, чтобы сейчас же затем приступить к действию: «Скажи скорей!..» и пр., и наконец опять отчаянное, разбитое: «О ты, пророчество моей души!», второй раз подтвердившееся подозрение…
Что касается до причин медлительности Гамлета, мне кажется, они достаточно ясно высказаны в последнем монологе II действия:
А я, презренный, малодушный раб,Я дела чужд, в мечтаниях бесплодныхБоюсь за короля промолвить слово,Над чьим венцом и жизнью драгоценнойСовершено проклятое злодейство.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .А я обиду перенес бы. Да!Я голубь мужеством; во мне нет желчи,И мне обида не горька; иначеУже давно раба гниющим трупомЯ воронов окрестных угостил бы…. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . я расточаю сердце*В пустых словах, как красота за деньги:Как женщина, весь изливаюсь в клятвах!Ужасно, в общем, трудная роль Гамлета, и сыграть ее хорошо нужно иметь большой талант и огромное мастерство; она слишком тонка и недостаточно эффектна для сцены.
15/II. Прежде чем я прочла вступительную статью к юношеским поэмам Шекспира, а также и ему приписываемым, мне казалось, что «Страстный пилигрим», по крайней мере в некоторых своих куплетах, не должен принадлежать Шекспиру: совсем не его дух, не его краски, не его кисть, и к удовольствию своему в этой статье прочла подтверждение своим предположениям148.
А вот «Два знатных родича», тоже опять-таки хоть в некоторых частях своих, верно, принадлежат ему. Там есть уже места, которые могли быть написаны только самим Шекспиром, т. к. для подражателей она слишком незначительна. Я разумею 1) упоминание «ивушки», которую все пела «дочь тюремщика», по словам ее «жениха». Про «иву» же поет и Дездемона в «Отелло» перед своей смертью, и конечно здесь (в «Знатных родственниках») упомянуть об ней мог только Шекспир, которому эта песня запала почему-либо на сердце, и он два раза упомянул ее, вкладывая в уста женщин любящих и несущих крест за свою любовь.
2) Сумасшествие «дочери тюремщика» поначалу несколько походит на сумасшествие Офелии, но дальше оно поведено хотя и гораздо грубее, но зато тем вернее с медицинской точки зрения. Ее «эротический», так называемый, бред – картинка с натуры, какие сплошь да рядом можно видеть в больницах. Самые скромные, целомудренные девушки говорят иной раз такие грубые по своему цинизму вещи, что невольно краснеешь; насколько возможно для печати – это передано и в словах дочери тюремщика, произносимых ею перед отцом, его друзьями и женихом в I сц. 4‑го действия, и что особенно тонко замечено – это страшное преувеличение, чудовищные гиперболы: сначала она упоминает 200 девушек, будто бы обесчещенных Паламоном, затем их уже становится 400; последующие слова ее содержат такие же преувеличения, весьма характерные в устах сумасшедшей. Можно даже, пожалуй, попробовать назвать ее болезнь: не с «amentiae ли Meynerti» мы имеем здесь дело149? Она очень могла быть вызвана ее долгими скитаниями по лесу без отдыха и пищи, т. к. общей причиной этой болезни является именно истощение. Тогда исполнение этой роли должно отличаться большой возбужденностью: движения должны быть нервны, порывисты; вся она должна быть в ажитации; речь быстрая, возбужденная, то громкая и крикливая, то тихая; можно даже прерывать ее смехом (не злоупотребляя только, конечно) и разными посторонними окриками, вроде: а-а, у-у и т. п.; чередоваться паузами непременно должны фразы.
Вообще, выражаясь образно: речь вся должна производить впечатление такого же беспорядка и хаоса, как неубранный зал после бала. Здесь все: и ленты сарпантина [так!], и увядшие цветы, и кусочки оборванных платьев, и блестящие бумажные ордена, и пестрые конфетти, и оброненные банты, веера, платки, цветы, записки и пр. и пр.; могут даже быть пробки от шампанского и шкурки от апельсинов.
Совершенно медицински правилен вопрос доктора: «Не правда ли, ее расстройство особенно усиливается в некоторые дни месяца?» (сц. III д. IV), что и действительно наблюдается, и понятно в какие дни.
Но вот что касается прописанного доктором лечения, то я сильно сомневаюсь, чтобы современные нам доктора с ним согласились и чтобы оно могло быть рациональным. Это уж плод авторской фантазии.
Впрочем, может быть, в те времена и прибегали к таким лекарствам. Чего в те времена не было!
В «Тите Андронике» есть две ссылки на «Лукрецию», которые, пожалуй, тоже показывают в нем автором Шекспира, и в таком случае написан он, вероятно, недалеко от того времени, как и «Лукреция». В нем мы имеем тоже отца, на которого обрушились возможные несчастья, но какая разница с «Лиром»!! Насколько весь драматизм здесь внешний, созданный умом, а не взятый из сердца и пропитанный кровью ее, как в «Лире»!
Но об нем в другой раз.
17/II. Прочтя следующий (12‑й) сонет Шекспира, нельзя, мне кажется, отрицать его влияние на пушкинские «Стансы»: «Брожу ли я вдоль улиц» и пр.
Вот сонет:
Часов ли мерные удары я считаю,За днем ли, тонущим во тьме ночной, слежу,С земли увядшую ль фиалку поднимаю,На кудри ль в седине серебряной гляжу,Иль вижу с тощими, без зелени, ветвямиДеревья, в летний зной убежище для стад,Иль, безобразными белея бородами,Поблекших трав копны передо мной лежат,В раздумье о тебе исполнен я заботы,Что и тебя в твой час раздавит бремя лет:Урочной смерти все обречены красоты —И их напутствует других красот расцвет;От Старца грозного, с его косой не сытой,Одно потомство нам лишь может быть защитой.В. Лихачев.Впрочем, что говорит подлинник; может быть, в нем ничего общего нет с переводом!
18/II. Ах, эти проклятые интерлюдии из моей личной жизни в моих занятиях! Сколько уже они мне крови напортили.
И до чего я изменилась! Тряпка, противная тряпка, которой вертят, как хотят. Было ли это когда-нибудь со мной прежде!
Впрочем, прежде многого не было…
А все-таки я не хочу быть тряпкой, тысячу раз не хочу! Хотя бы для того, чтобы другие знали, что я не тряпка, мочалка, фу…
21/II. Ужасно странное впечатление производят на меня последние произведения Шекспира! Точно другой человек писал. То есть рука Шекспира, конечно, чувствуется и в них, но какая-то бессильная, точно расслабленная. Надо было или много пережить за это время, или стать каким-нибудь паралитиком, чтобы после таких вещей, как «Макбет», «Отелло», «Лир», написать какого-нибудь «Перикла», «Антония и Клеопатру» и пр. Положительно не верится, чтобы они были написаны в числе первых комедий (например, манера обращения Хармианы к Алексасу и затем разговор ее с предсказателем в I д. «Антония и Клеопатры» совершенно в духе первых произведений Шекспира) или же что Шекспир писал их уже в припадке старческого маразма, начала разрушения умственных и духовных сил, сохранивших еще кой-где по частям остатки былой мощи и здоровья. А «Король Лир»! Какая колоссальная сила и какой колоссальный гений! На мой взгляд, достаточно одного «Короля Лира», чтобы стать и оставаться Шекспиром. Это – лучшая из его вещей; это – откровение; это – почти то же, что «Царь Эдип» Софокла; почти – потому что для нас «Лир» еще, пожалуй, лучше: ближе и доступнее.