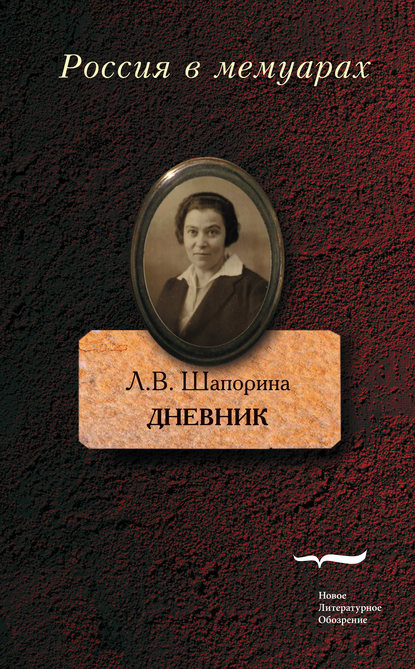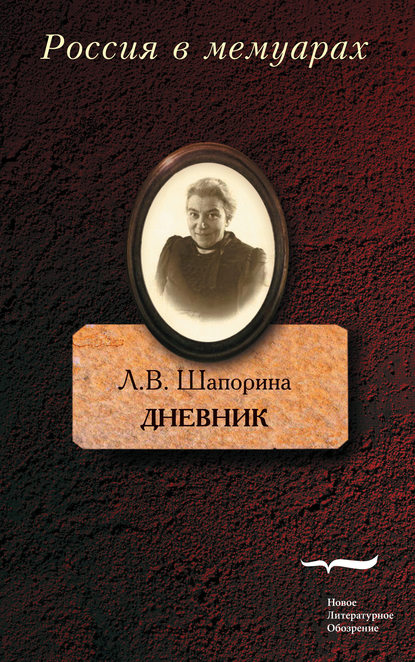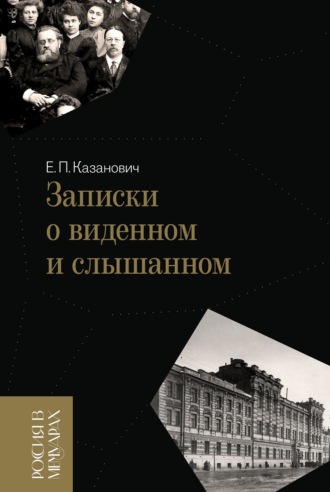
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
Таковы были переживания, с которыми Шекспиру, верно, пришлось столкнуться в личной жизни. И вот, жить в Лондоне иначе – для него невозможно, продолжать же такую жизнь дальше также невозможно; поэтому скорее и подальше вон из нее, туда, где нет этого неравенства (для Шекспира, по крайней мере), где вчерашний бог и кумир не становится сегодня жалким безумцем, расточителем, только в силу того, что он роздал другим свое имущество в надежде, что в нужде люди так же помогут ему, как он помогал другим, словом, туда, «где любят нас, где верят нам»180.
Но если даже молодые аристократы (Соутгэмптон, Пэмброк с друзьями своими) и искренно принимали Шекспира в свой круг, то семьи их, все их общество уж наверно не могло снизойти (или возвыситься – как угодно) до этого.
Откуда бы иначе могли появиться такие горькие ноты, как в сонетах 29, 110, 111, 66 и пр.? в «Гамлете»? в «Юлии Цезаре»? в «Тимоне Афинском»? Кровавые, из души говорящие ноты?
Может быть, был и такой случай, – вполне возможный, – что Шекспир полюбил какую-нибудь аристократку. Что могла сказать ему она в ответ на это, ему, жалкому плебею и комедианту?
В нашей литературно-аристократической среде прежних лет, далеко не страдающей такой исключительностью, как английская, и то бывали такие случаи, и равенства настоящего не было. Недалеко идти – Гоголь.
Уж Пушкин ли не был человеком, уж Пушкин ли не умел понимать духовные заслуги другого, уж Пушкин и все прочие не относились ли вполне сердечно и хорошо к Гоголю, не помогали ли ему словом и делом, выхлопатывая всевозможные пособия и милости у меценатствующего Николая I? А что ж? И для них он не переставал быть «хохлом», и от них бежал он в Италию, где ему легко и вольно дышалось, потому что никто не знал там, что он «хохол», что он вечно нуждается в деньгах и материальной помощи, что он «разночинец» в обществе камер-юнкера Пушкина и фрейлины Смирновой, не имеет светских манер и внешнего лоска.
И это в XIX веке, в России, где люди вообще мягче и гуманнее.
К этому настроению у Шекспира, может быть, еще примешалось и влияние пессимистической литературы, например «Опытов» Монтэня и пр.
4/III. Хорошо не помню сейчас, но, кажется, сюжет, подобный «Мера за меру», разработан и в метерлинковской «Монне Ванне»181.
А вот не от Шекспира ли, взявшего в свою очередь у Лилли («Эвфуэс») свое сравнение государства с ульем пчел («Генрих V», [акт] I, [сц.] 2), взял его Писарев и так блестяще развил в своей статье182.
Нельзя ли также думать, что Андерсен у Шекспира научился так изумительно оживлять природу? Это очень возможно, если только он когда-нибудь держал в руках «Сон в летнюю ночь» (или «Бурю»).
6/III. Интересно отмеченное Чуйко соответствие между строками 112‑го сонета:
«Your love and pity doth the impression fillWhich vulgar scandal stemp’d upon my brow…»«Твоя любовь и жалость покрывают знак, напечатленный на моем лбу обыденным скандалом» (пер. Чуйко), – и шрамом на посмертной маске Шекспира.
Любопытно, однако, то, говорит Чуйко на 564‑й стр., что знак действительно существует и на маске, но не в том месте, на которое указывает Пэдж183, а в другом, и имеет совершенно другой характер. Почти на половине расстояния между дугой бровей и верхушкой лба, т. е. на два с половиной дюйма выше бровей, замечается линия в два с половиной или в три дюйма и тянется диагонально вдоль черепа. Характер этой линии не оставляет никакого сомнения в том, что это – не более как рубец зажившей раны: оттенки рубца ясно видны и на гипсе.
Таким образом, можно полагать, что кассельштадтская маска действительно принадлежала автору 112‑го сонета, а следственно, и всех тех произведений, которые ему приписываются. Отсюда – автор произведений Шекспира имел шрам на лбу, лишний и даже почти фактический довод против авторства Бэкона. А если есть еще свидетельство Пэджа о шраме у актера Шекспира, то, следовательно, он и является автором своих произведений.
Однако вот закавыка: Брандес переводит слово scandal словом «сплетня», тогда дело значительно меняется и аргументация о принадлежности сонета оригиналу маски отпадает184.
Который же перевод правилен??
8/III. Нельзя ли в монологе Шейлока «Разве еврей не человек» и пр. («Венецианский купец»)185 найти аналогию с чувством отвергаемого людьми актера, парии среди людей, и не может ли и тут быть такое же личное чувство Шекспира, как в 110‑м и 111‑м сонетах?
Эти слова Шейлока и несколько мрачная, пессимистическая фигура Антония указывают, что «Венецианский купец» уже заключает в себе задатки 3‑го периода186.
17/III. Отчитала, наконец, сегодня Маша [Островская] свои лекции. Я пришла к ней в университет из академии прямо (в 3 часа) и отсидела там почти до 6 часов. В 5 она сошла вниз и когда рассказывала мне о своем чтении, говорила так неясно, что я несколько раз заставляла ее повторять отдельные слова и целые фразы. Воображаю, как она там говорила! Это ее большой внешний недостаток, и не знаю уж, чем помочь ей. До тех пор, пока она не будет вполне владеть собой во время лекции и думать о своем говоре, – ее не будут понимать.
Сходящие профессора поздравляли ее, она буркала им что-то в ответ, и они уходили. Как-то ужасно сухо и официально происходило все это, и обидно было за Машу; никто не отнесся к ней тепло и участливо, за исключением одного Ал. Ив. Введенского; лучше других еще отнеслись Браун и Гревс. Конечно, во всем виновата ее внешняя манера и собственное неумение быть приветливой, так что профессоров я строго винить не могу, да и ее тоже, но мне обидно за нее и жаль ее в этом случае.
Из университета мы поехали к ней187, где ее ожидали Венгерова188 с Великановой, пообедали у нее, поднесли ей цветов (я ходила за ними сейчас, как только мы с ней приехали) и выпили домашней наливкой [так!] за ее успех.
Интересно, утвердят ли ее в приват-доцентуре189?
Хорошо, что все обошлось тихо, без демонстраций равноправных и благотворительных дам. Вот-то сконфузятся они, когда узнают, что все обошлось без их содействия и благословения!
19/III. Вчера по дороге на французскую выставку190 зашла к Lusignan191, которая мне сообщила, что умерла А. П. Философова192. Lusignan очень жалела, что у нее уже взят билет193 и она не может, таким образом, остаться побывать хоть на панихиде ее. Утром сегодня зашла к Чернякам посмотреть в газете расписание панихид и похорон. Оказывается, сегодня на курсах назначена панихида в час дня.
Собираюсь идти.
– Вы куда? – спрашивает меня Лидия Семеновна.
– На курсы.
– В библиотеку?
– Нет, на панихиду.
– Ах, это по Стасовой, что ли?
– Нет, по Философовой.
– Да нет, ведь Стасова же умерла.
– Философова, Анна Павловна, единственная дожившая до нас из основательниц наших курсов194.
– Так ведь это же Стасова и есть, – настаивает Лидия Семеновна.
– Стасова давно уже умерла. Да что лучше, прочтите на первой странице «Нового времени» объявление.
Лидия Семеновна читает и убеждается:
– А я думала, Стасова.
Прихожу на курсы.
Внизу, по обыкновению, толпятся курсистки. Одни одеваются, другие раздеваются, одни уходят, другие приходят.
– Идем на панихиду, – предлагает возле меня одна курсистка другой.
– Какую панихиду, зачем?
– Да по Философовой.
– А кто она? Я с ней не знакома.
– Ну вот еще, не все ли равно! Она там что-то по равноправию женщин хлопотала и была председательницей женского съезда195.
– А-а, ну пойдем себе.
– Почему на курсах панихида по Философовой? – говорят немного дальше.
– А кто его знает! Пойдем, посмотрим, что ли?
– Ну Бог с ним, мне некогда; лучше погуляем немного.
И такие отзывы слышны повсюду кругом, но из любопытства многие все-таки идут наверх в зал.
Недаром Анна Павловна сокрушалась, что нет никакой традиции на наших курсах, что к курсам, как к учреждению, нет любви в курсистках, что они – какой-то пришлый, кочевой элемент, незнакомый ни с историей возникновения курсов, ни с учредителями их, ни с жизнью их вплоть до настоящего момента.
Это правда; от них берут все что можно, но ими не интересуются. Из знакомых мне только Lusignan да Маша [Островская] составляют исключение (Маша, между прочим, пришла на панихиду). Поэтому и на панихиде не было настроения; стояла толпа холодная, равнодушная, пришедшая позевать от нечего делать. Следовало бы кому-нибудь из комитетских дам разъяснить отношение Анны Павловны к курсам, хоть пользуясь случаем ее смерти, а то Нечаева сказала несколько общих фраз по окончании панихиды, и тем дело было кончено. Одна курсистка, очевидно из бюро слушательниц196, объявила, что у гроба назначаются дежурства из курсисток, пригласила жертвовать на венок и взывала прийти как можно в большем количестве на отпевание и вынос тела на вокзал, имеющее быть в среду197. Она так настойчиво повторяла последнее приглашение, повторенное несколько раз, что даже неловко было перед родственниками покойной, в присутствии которых это все происходило.
21/III. Пришла на похороны уже к самому выносу из церкви198. Перед Владимирским собором199 стоял катафалк для гроба и несколько катафалков с цветами. Все это было окружено цепью из курсисток, так что площадь возле катафалка была чиста от посторонней публики. Внутри стояла кучка комитетских дам, и из профессоров я увидала Савича, Булича, Богомольца. Несколько впереди – хор, группа курсисток и несколько студентов.
Придя к церкви, я стала в толпе за цепью, но какая-то курсистка подошла ко мне и стала просить в хор.
Народу в общем было не особенно много, и настроения и тут не было. Молодежь по обыкновению смеялась, болтая всякий вздор, распорядительницы волновались, прося нас то отойти подальше, то подойти поближе, то стать в ряды, то сомкнуться в кружок; студенты хозяйничали тоже.
Пронесся слух, что полиция разрешила нести гроб на руках, и несколько человек пошли в церковь.
Через минут 10 послышалась «Вечная память» церковного хора, показался на плечах студентов гроб и раздалась «Вечная память» нашего хора.
Боже, что это были за звуки! Не спевшиеся пискливые голоса брали все в унисон, причем не все даже сразу в тон попадали, студенты басили тоже кто в лес, кто по дрова, и можно себе представить, что должно было получиться!
Правда, чем дальше, тем дело шло лучше, так что перед Царскосельским вокзалом200 дело пошло уже совсем хорошо, но первый возглас хора был ужасен.
Вообще, хор был очень мал, слаб и жидок, а так как он то убегал Бог знает как далеко от гроба, то совсем почти садился на него, мешая несущим студентам идти, то впечатление получилось довольно жалкое.
Курсисток, казалось, было очень немного, но это, вероятно, оттого, что все они растянулись в очень длинную цепь, далеко окружавшую всю процессию.
На средине Загородного к цепи подошли 4 еврейских мальчугана, и один из них, старший, гимназист III или IV класса, так бесцеремонно и решительно проговорил, что надо еще расширить цепь, разорвал руки держащих ее курсисток и сам с товарищами своими стал в ряд, а затем так презрительно и победоносно поглядывал на курсисток, муштруя их все время, как надо идти, что те молча и безропотно покорялись. А гимназист с тремя малышами, даже еще не гимназистами, громче всех орал «Вечную память», не попадая ни в тон, ни в такт.
Как всегда, толпа росла чем дальше, тем больше; движение извозчиков и трамваев было затруднено, и многие вылезали из трамваев и присоединялись к процессии; в домах раскрывались окна, и много глаз с любопытством провожали шествие, пока было видно. Но все-таки настроения и тут не было, и не чувствовалось никакой торжественности.
На вокзале был уже приготовлен траурный вагон, и гроб молча внесли туда. Так же молча передавались над головами присутствующих венки длинной вереницей, так же молча развешивались внутри вагона201. Пение прекратилось, толпа молча зевала, как бы выжидая еще чего-то. Долго продолжалось такое неопределенное состояние, наконец, в вагон влезла О. К. Нечаева и заговорила.
К моему очень неприятному удивлению, я услышала точь-в-точь от слова до слова то, что она сказала на курсах, с теми же дрожаниями голоса, с теми же паузами на тех же местах.
Не могу я понять, как можно, как поворачивается язык повторять два раза буквально одно и то же в подобных случаях. Ведь это же не лекция! Да и там, если профессор прерывает изложение фактов лирическими отступлениями по поводу их, и делает это в одинаковых выражениях, как год назад или в другом случае, случайно известном кому-нибудь из слушающих, – на губах непременно появится улыбка и профессор этот непременно убавится в росте хоть на сотую долю вершка.
А тут, где должно говорить одно только чувство!
После Нечаевой говорила Калмыкова202, потом Рожкова (если только такая есть) и еще одна дама203. Больше ничего не предвиделось, и я ушла.
Это был уже третий час или около трех.
31/III. С похорон Философовой я зашла в Музей Александра III204, где успела посмотреть только три первые зала с новыми картинами: Серова (портреты), Головина205 и Коровина. До чего хорош серовский портрет графини Орловой! Голова и верхняя часть туловища – положительно chef d’oeuvre206. Низ не отделан и поза некрасива, да еще фон слишком напирает, не чувствуется воздуха, зато голова, голова207!
Мастер Серов, и какой прогресс с каждым разом, с каждым новым произведением208.
Сегодня зашла к Тото посмотреть его «Суд Париса». Рисунок, по-моему, у него всегда хорош, а краски и композиция меня не удовлетворяют; в карандашных набросках казалось лучше и интереснее, больше обещало.
Будешь ли ты Мастером? Думаю, что в конце концов будет, и у него будет чему поучиться другим. Но боюсь, чтобы он не был холоден и чтобы рассудочность и мастерство не засушили в нем души произведения.
Вчера, перед тем как идти к Маше, я зашла к Тото часов в 6. Мамы не было дома209, я разлеглась на диване и стала читать вслух Иванова-Разумника «Историю русской общественной мысли»210, пока Тото отогревал себе обед.
На замечание Иванова-Разумника о том, что у Пушкина всегда было двойственное отношение к Петру Великому и его реформам, выразившееся и в «Медном всаднике», Тото ответил, что он этого понять не может, тем более по отношению к Пушкину.
Я возразила, что, наоборот, вполне понимаю Пушкина, так как при его гуманности и не могло быть другого. С одной стороны, гений Петра кроме поклонения и восхищения ничего и не может к себе вызвать, с другой – бесконечные жертвы его гения не могут не вызвать к себе самого теплого сожаления и глухой, невольной неприязни к человеку, их приносившему.
– Но ведь каждый человек, который что-нибудь делает для всех или для многих, должен жертвовать несколькими, хотя бы близкими своими. Само дело оправдывает эти жертвы.
– Не совсем и не со всякой точки зрения. Может быть такая точка зрения, что каждый человек самоцель, и тогда один столько же стоит, сколько сотни, тысячи, миллионы людей; они совершенно одинаковы в своей ценности. Для такого гуманного человека, как Пушкин, это было вполне ясно, и оправдание Петра могло быть только отвлеченно-рассудочным или же эстетическим, какое вызывает всякий гений.
– Так ведь, по-моему, если я оправдал человека своим рассудком, так и чувства мои пойдут вслед, и я никакой неприязни питать к нему не буду.
– Это далеко не всегда возможно, во-первых. Во-вторых, допустим даже, что такие жертвы, как десятки тысяч солдат, убитых на войне за укрепление положения России в Европе, или десятки тысяч погибших на работах при постройке Петербурга рабочих мы даже оправдаем как якобы нужные для блага других таких же людей. Но ведь есть и другая сторона медали: всякий человек дела непременно до некоторой степени деспот; все приводит его к этому, начиная с несокрушимой воли, кончая силой, заставляющей все и вся ему покоряться. И подобный деспотизм, не оправданный уже никакими благими целями, несомненно, проявлялся у Петра часто, и тут уж в результате являлось на сцену оскорбление человеческой личности, никогда и никому не прощаемое и никакими заслугами не оправдываемое.
– Не понимаю, какое тут может быть оскорбление! Если я знаю, что какой-нибудь человек сильнее меня и я должен ему подчиниться, – моя личность тут нимало не затронута.
– Как! А самый факт подчинения?
– Так ведь для дела же.
– А всепьянейший и всешутейший собор тоже для дела? Если на тебя надевают дурацкий колпак, хочешь или не хочешь, и заставляют залпом выпить чуть ли не полведра водки, когда ты не в состоянии выпить и рюмки, – это тоже для дела?211
– Если я не захочу, так ни одну и не выпью.
– Силой вольют.
– Не дамся; а буду бессилен сопротивляться – подчинюсь, и все-таки личность моя не пострадает нисколько, так как, сознав бесплодность сопротивления, я подчинюсь совершенно добровольно, поняв необходимость такого выхода.
– А если необходимости этой нет и быть не может, если я не хочу ее признать и меня заставляют ей подчиниться, значит, надо мной совершено насилие, а разве в нем нет оскорбления личности?
– И все-таки нет; в насилии нет оскорбления.
– Ну, пусть будет по-твоему, допустим и это. И все-таки к человеку, совершившему над ними насилие, не будет другого отношения, кроме ненависти.
– Но как все это может касаться до Пушкина? Над ним Петр никакого насилия не совершил.
– Что ж, по-твоему, принцип – ничто?
– Да, не понимаю я таких принципов, тем более что и сам Пушкин, как тоже человек дела…
– Мысли, а не дела.
– Дела, поскольку он служил искусству, и человечеству своим искусством.
– Нет, это большая разница: он служил мыслью, а в этом случае не может быть таких жертв, как в деятельности государственного человека.
– Все равно, разница в количестве. Разве Пушкин не жертвовал своими близкими? Уж наверное, если к нему приходило вдохновение и хотелось писать, он уходил в свой кабинет, запирался и просиживал один на один с собой, как бы ни хотелось его матери, сестре или жене поговорить с ним в это время. Тоже ведь своего рода насилие над ними.
– О нет, тут он только ограждал себя и делал то, на что каждый из нас имеет право. Да и то часто ему приходилось поступаться этим правом благодаря своему доброму сердцу: когда он женился, он писал гораздо меньше, часто урывками, по ночам, потому что днем жена хотела иметь его для себя. Даже больше: он поступался своими убеждениями, пиша наспех, ради денег, когда жена их требовала для выездов и туалетов.
– Ну, значит, Пушкин был слаб, и его можно только осудить за слабость.
– Всякий гуманный человек слаб; а кроме того, всякий человек мысли – тоже слаб, потому что он всегда видит оба конца палки, обе стороны медали.
– А вот Врубель не поступал так. Когда ему предлагали хороший заказ, который, однако, не соответствовал его понятиям об искусстве, он не брал его, хотя потом страшно бедствовал и голодал из‑за этого.
– Но ведь Врубель жертвовал только собой в данном случае.
– Не совсем: страдало, кроме него, и его искусство.
– Ну вот видишь! Вот тебе и второй конец палки! И чем больше ты будешь продумывать такие вещи, тем больше увидишь невозможность быть последовательным.
– А все-таки я буду брать пример с Врубеля, и его пример много помог мне в выработке твердости.
– Бери, но помни, что человеческой личностью, как своей, так и чужой, нельзя жертвовать ни ради чего.
2/IV. Тото сегодня остался очень доволен Сашей Яковлевым, который, по словам Тото, дал ему столько ценных и глубоких указаний относительно «Суда Париса», что Тото сразу понял ее главный недостаток и в чем суть каждого произведения.
Ну, слава Богу, значит, я ошибалась насчет его легкомыслия и поверхностности отношения и понимания живописи.
А потешный этот Саша Соловьев212. Он забрел сегодня к Тото, и оттуда мы пошли с ним немного пройтись.
Оригинален он очень и не глуп в своих суждениях, но как-то юн еще, хотя и окончил университет. Боюсь, не подозрительная ли у него оригинальность, как и у Лидии Семеновны. У обоих их уши дегенератов, и как бы это не сказалось на Саше, по крайней мере, так как жизнь его, наверное, не отличается воздержанностью.
9/IV. Вчера Тото несколько порадовал меня. По обыкновению пришла ко мне мама, Тото и неизменный друг моих скучных воскресений – Маша.
Говорили обо всем понемножку. Мамочка отчаянно зевала при этом, Маша разрушала все и вся своим обычным скептицизмом, я с ней в большинстве случаев – как и всегда – не соглашалась. Тото держал нейтралитет. Машино желание или стремление (не знаю уж, как лучше выразиться) быть трезвой перетрезвляет ее уж очень в иных случаях и переходит поэтому в недопонимание некоторых вещей. Если Ли грешит полной неспособностью понимать действительность, живя всеми помыслами и всей душой своей в видениях романтизма, – Маша грешит часто слишком ядовитым, зараженным отравой сомнения, недоверия и насмешки пониманием действительности. Это, конечно, не всегда, и не менее часто она обнаруживает вполне трезвый и верный взгляд на вещи, не лишенный проницательности и своего рода наблюдательности. У меня с ней больше точек соприкосновения, пожалуй, чем с другими; нас очень роднит наш общий русский дух.
Едва мы сели за чай, а Маша за неизменные апельсины, как пришла Лидия Семеновна звать нас посмотреть из окна ее комнаты на пожар. Зрелище было очень красивое, но и тяжелое, по связанным с ним мыслям о несчастных погорельцах – все рабочей бедноты – и черных обуглившихся пнях среди беспорядочных груд золы и обгорелого мусора на следующий день…
Горел деревянный двухэтажный дом на 14‑й линии, но впечатление получалось такое, как будто длинные языки пламени лижут белый каменный дом напротив, на 15‑й линии, так стлались они для наших глаз по его стенам. Дом этот был теперь совсем розовым и благодаря исчезнувшей рядом с его белизной темной крыше и потонувшим во мраке остальным, соседним с ним, постройкам, казался какой-то фантастической стеной с черными глазами, одиноко возвышающейся за темными силуэтами домов на ближайших к нам линиях. Стиль модерн, в котором дом построен, придавал ему теперь какой-то особенно важный, строго замкнутый в своем одиночестве вид; точно стена средневекового рыцарского замка, скрывающая за собой какие-то тайны213.
А желтые и розовые волны дыма высоко клубились вокруг него и медленно исчезали в чернеющей бездне пространства.
Сегодня говорят, что сгорели детские ясли-приют214, и в момент пожара все до того растерялись вокруг, что забыли уведомить пожарную часть, и она явилась уже тогда, когда весь дом обрушился. Детей спасали жильцы соседних домов, так что многих детей сначала не могли доискаться и думали, что они сгорели. Сгоревших, кажется, нет, но обгоревших несколько человек.
Вот что такое красивое зрелище пожара.
Вернувшись из комнаты Ли, мы продолжили свой чай.
Когда Маша в обычное свое время, около ½ 12-го, поднялась домой (ее ни за что нельзя уговорить посидеть попозже; колебание бывает только в 15-ти минутах, т. е. она уходит или в четверть 12-го, или досиживает до половины, или между этим временем), мама уже совсем спала в кресле (устает она, бедная), а Тото завел со мной разговор сначала, по обыкновению, о живописи, о своей работе, а потом дело перешло на общие вопросы.
Умный он малый, до многих очень верных мыслей доходит своим умом; жаль только, что это по большей части мысли уже известные, так что он только задним ходом повторяет движение общей человеческой мысли. Конечно – «нельзя обнять необъятное», повторяя «мещанскую» поговорку Пруткова215, и не может он одновременно со своей работой по живописи следить за ходом науки и развития человечества, но отрадно уж и то, что он перестал говорить теперь такие вещи, которые говорил еще летом: художнику вовсе не нужно читать, ему важно только развивать свой глаз и руку, больше ничего до него не касается; художник совсем не должен думать – наслаждаться жизнью, плясать, делать гимнастику и писать; он может быть глупым, как осел; «форма и краски, краски и форма, вот что нам нужно, больше ничто может не существовать».
Вчера же Тото говорил уже совсем другое, а именно: за последнее время он пришел к признанию того, что в картине важна не одна только форма, но и содержание, и пошел развивать это дальше. Великими были только такие произведения, которые отразили на себе всю эпоху, были выразителями ее, например произведения эпохи язычества, христианства, Возрождения. Великий мастер, в какой бы то ни было области, должен собрать все, что было сделано до него, всю подготовительную для его появления работу, и привести это к одному целому. Эти выразители эпохи являются, конечно, не в самом начале известного периода, а только когда подготовительная работа, выполняемая сотнями и тысячами мелких работников, закончена. И мы переживаем теперь известную эпоху. В архитектуре, например, она завершена уже выработавшимся стилем «модерн». Это, несомненно, свой стиль, и со временем он будет стоять наряду со стилем empire216, рококо, барокко и др. Вовсе не верно, что он убог и беден, как говорят многие; он только не так ярок, как прежние стили, но это объясняется, может быть, тем, что он является продуктом не единоличного, а обширного коллективного творчества. Над какими-нибудь египетскими пирамидами, например, работал один маленький сравнительно, сконцентрировавший все свои силы на себе одном народ; над модерном же работает все человечество; он покрыл собой весь мир. Это объясняется широко развившимся общением и диффузией жизней всех народов, так что все мы, дети одной расы, переживаем в данный момент приблизительно одно и то же и нет между нами такой резкой яркости, такой самобытности мысли, которая внесла бы что-нибудь оригинальное в этот процесс работы; постоянное трение друг об друга сделало нас гладкими, одноформенными.