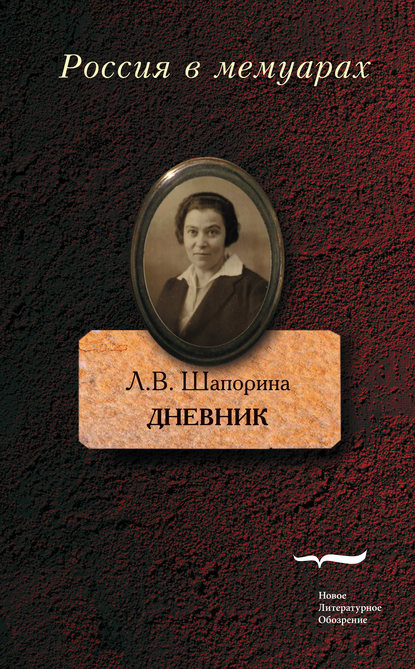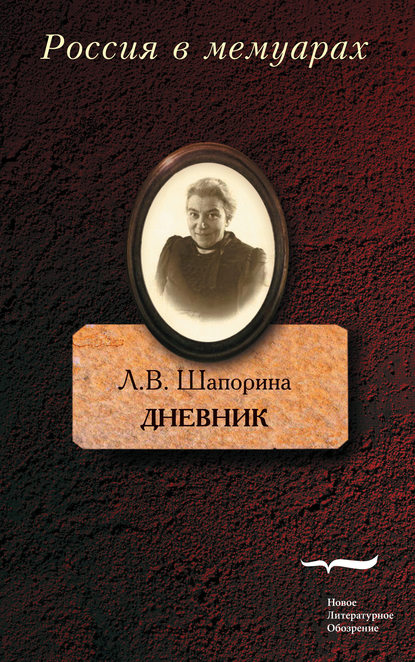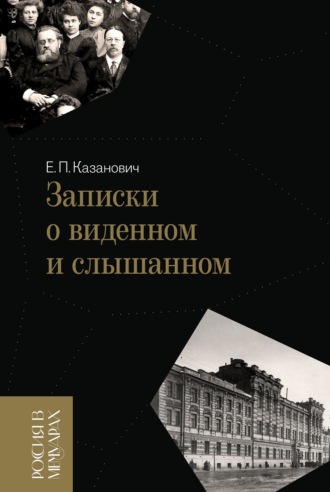
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
Читать с увлечением свое собственное? Да, оно конечно можно… но только в том случае оно не смешно, если слушатели увлечены еще больше самого автора; в противном же случае получается острота третьего сорта, т. е. когда сказавший ее захлебывается от восторженного смеха, а все остальные молчат и даже не улыбаются. Читать и конфузиться – как это делаю я – тоже глупо до невозможности, т. к. тогда наверное читаешь на провал; все места послабее – комкаешь, и тем больше останавливаешь на них внимание.
Пока я пишу, мне всегда кажется, что оно выходит недурно; когда кончила писать и переписываешь или прочитываешь только себе самой – вещь кажется уже только сносной, с уклоном все-таки в дурную сторону; когда же читаешь кому-нибудь вслух – вещь кажется никуда не годной, глупой, пошлой, мерзкой… словом – и не придумаешь эпитетов. Чувствуешь себя точно на позорном столбе или хуже – точно человек сам без рубашки вышел на улицу и не знает, куда девать себя, за что спрятаться от мучительного стыда. Делаешь развязный вид, стараешься показать, что ты ничего не замечаешь, что все обстоит благополучно…
По этому поводу мне припоминается мой первый бал по окончании гимназии, когда я в первый раз одела открытое платье. Пока вначале, на концерте, я сидела в sortie de bal73, все было хорошо, но когда пришлось ее снять и идти танцевать, мне сделалось до такой степени стыдно, что у меня показались слезы на глазах и я стала просить, чтобы меня скорее отвезли домой. С тех пор я никогда больше не одевала открытых платий74.
Пругавин не понимал, верно, этого моего состояния, т. к., несмотря на мои отказы, он непременно просил меня продолжить, когда пришли еще двое (М. А. Антонов, человек, интересующийся сектантством и писавший что-то для народа, что даже ставилось в Народном доме, как говорил Александр Степанович75. Второй – кончающий студент и тоже изучающий сектантство). Ну, когда читаешь одному человеку, с которым пришел посоветоваться и от которого желаешь услышать мнение, – это еще куда ни шло. Ведь идут же слушать совет врача и даже раздеваются перед ним; но если врач демонстрирует больного перед целой аудиторией – положение меняется.
Впрочем, сама виновата, сама виновата! Неужели до сих пор еще не могла вдолбить в себя мысль, что…
Ну да, надоело же, наконец. К черту все, и за экзамены.
А все-таки вчера мы не дочитали, так как пришли еще и еще, и Пругавин просил прийти завтра в субботу дочитывать. Слава создателю, он хоть один будет.
А этот вопрос: «Куда вы думаете поместить эту вещь?» – Ах, как глупо! Почем я знаю? Никуда не думаю, ничего не хочу.
Неужели я никогда не излечусь от графомании!! Во всяком случае, как бы то ни было дальше, а легенды убрать непременно. Маша посоветовала верно.
Если бы мне предложили все муки Гоголя и еще в тысячу раз больше за то, чтобы я могла написать «Мертвые души», я бы их с радостью приняла. Боже, я хочу служить людям, это не честолюбие во мне говорит; теперь его у меня уж нет, я могу это сказать, положа руку на сердце. Но не могу я служить им разными кооперативами, народными банками, бомбами, прокламациями и пр. и пр. Для меня не существует мысли разумнее той, что известные идеи надо проводить, воспитывая в них людей с детства, как это делали иезуиты, мудрые иезуиты. И еще толстовское: «школы, школы и школы».
А разве «Мертвые души» не школа, целая огромная, если не мировая, то народная школа.
Глупо! ах как глупо! Глупо…
Всегда после таких рассуждений у меня наступает отвращение к себе, как у Ивана Карамазова в горячечном бреду…
Какое удивительно уродливое создание человек! После того, как он сам себя высечет, сам наплюет себе в физиономию, он приходит в веселое и необыкновенно благодушное настроение – как ни в чем не бывало! Тем, что я здесь сегодня написала, я улучшила свой день, который грозил быть очень скверным, судя по пробуждению.
4/XII. Да, так вчера я была у Пругавина. Встретились мы с ним на лестнице, т. к. он откуда-то вернулся.
В передней, помогая мне раздеваться, он стал говорить: «Ну-с, могу вам сказать, да, что студент, которого вы у меня видели, очень одобрил вашу вещь и жалел, что слышал из нее такой малый отрывок. Антонов тоже говорил, что это интересно, да».
Добрый Александр Степанович, он хотел хоть этим утешить меня!
Затем я стала читать конец.
Он повторил свое замечание о том, что для старообрядцев не характерно такое отношение к женщинам, что у них женщины в делах веры пользовались не только полной свободой, но и большим уважением, наряду с мужчинами.
По-моему, это, может быть, можно сказать относительно прежних женщин, настоятельниц скитов, которым в прежние времена приходилось бороться и страдать за старообрядчество; теперь, может быть, отношения и переменились. Да, наконец, ко всевозможным монахиням и схимницам и среди наших религиозных людей существует совсем иное отношение, чем к просто женщинам вообще. Впрочем, может быть, он и прав. Ему лучше знать. Я только передала тот факт, с которым мне пришлось столкнуться.
После этого, в ответ на мою просьбу, он заметил, что следовало бы несколько переделать, вставить маленькое вступление о литературе вопроса («Публика наша живет настоящим и не знает прошлого, поэтому такие напоминания всегда полезны», – как выразился А. С.), и если я высказала в прекрасном (или «очень удачном», уж не помню) заглавии такую «интересную» и «вполне правильную» мысль об отживании старообрядчества и православия и выступлении на смену им новой религии – сынов свободы (! клянусь, не это было у меня на уме, но – да будет так), – то следовало бы в самом рассказе показать ее более выпукло и ярко. Ну, затем говорил, что надо всегда поставить себе известную цель и все время иметь ее в виду во время писания (я думала, что она и была у меня: передать как можно проще и без претензий то, что я видела на Светлом озере), что, конечно, чем короче вещь, тем более шансов она имеет на успех и в смысле помещения в журнале и в смысле впечатления от чтения и пр. и пр.
Оценки же не дал никакой, и это можно, конечно, занести только за счет его деликатности.
Словом, повторение истории с Дьяконовой и я сама не больше как та же Дьяконова, глупая и неталантливая женщина. Впрочем, третья часть дневника Дьяконовой76 даже хорошо и интересно написана, так что в этой области писания у нее даже развился небольшой талант.
Потом пошел опять вопрос о том, куда я хочу поместить.
Пришлось сказать, что сама не знаю, что хотела узнать его мнение о том, стоит ли вообще куда-нибудь помещать, и пр. и пр.
– Да. Нет, печатать, конечно, надо, да, надо. Только вот куда? Есть два рода редакторов: которые очень внимательно относятся к рукописям и у которых такого добросовестного отношения к ним нет. Вот Короленко, тот очень в этом отношении добросовестен, и вы, конечно, можете отправить ему вашу рукопись с письмом – но он, как человек, бывший в тех местах и сам писавший по этому вопросу, пожалуй, отнесется к вам слишком строго. Вот, может быть, в «Современный мир»77? Да. Там иногда помещают произведения молодых авторов. Попробуйте туда, да.
И прочее, в таком же роде.
Я поблагодарила за советы и указания.
Поговорили еще немного.
Пругавин, между прочим, предполагает большую роль религии в будущем России, и в этих новых, все распространяющихся среди народа сектах видит залог будущего сильного движения и даже борьбы. «Православная церковь не уступит им без бою своего значения, а ведь церковь наша связана с государством; так что тут уж даже борьба выйдет из области чисто религиозной. Смотрите еще, Иллиодор что натворил!»78 – прибавил А. С.
Да, но все-таки кончились мои прекрасные денечки! Опять пойдет жизнь «без божества, без вдохновенья…»
Но я не могу, я не хочу так жить. Я только тогда и испытываю ощущение жизни, когда я чем-нибудь увлечена, в противном случае я не живу.
И выходит, что «тьмы смелых истин нам дороже нас возвышающий обман…»79
Между прочим: Пругавин убежден, что я эсдечка! Я пробовала говорить ему, что я, наоборот, очень умеренная; он только кивает головой. Как раз как Дмитрий Иванович на Светлом озере!
Это убеждение у него явилось, верно, по ассоциации с Машей и ее симпатиями к эсдечеству.
Я – социал-демократка!!
А скверно, скверно… Обман и сон – да, пожалуй, в этом жизнь…
7/XII. Рыдания девы Еулалии о житии своем.
Како ту жить ми, егда не токмо для прелести какия, для феатра ниже на книг приобретение, но и для пропитания бренной плоти моей достатков не иму. О горе нам! понеже мати моя седьмицу целую сама не ясть, но для дети своей что имет – хранит. А о брате любезнем и не помыслю! Не мало дни рыщет, аки пес гладный, по граду сему, ища, где бы деньжонок добыти. Платьишком поизносился, бельишко худое, а сапожишки – подошва на собственных нозех.
Будет ли скончание скитаниям нашим или судил нам Господь всю жизнь земную тако жити, дабы тем слаще вкусить награду на небесех?
Истинное тяжкое бо есть испытание житие сицевое!
Еще добре яко духом не упадаем но бодро и с упованием взираем вдаль80.
Вот плоды моих занятий историей российского театра.
А все-таки какую притягательную силу имеет в себе родная старина. Что ни говори, а от патриотизма и национализма отстать трудно, и эти чувства имеют еще свою прелесть.
Когда это? Да, в понедельник! – мне хандрилось неимоверно, и я написала Маше глупейшее и нелепейшее письмо, на которое получила от нее сегодня ответ. Вот история! Она пишет мемуары тоже! Любопытное получится состязание, т. к., наверное, у нас будет много общих пунктов для записывания. Интересно бы подглядеть!
Ее мемуары должны быть интересны, т. к. она обладает колоссальной памятью, и если она запишет все то, что мне рассказывала о курсах, дело будет неплохое, тем более что она, по всей вероятности, сможет быть объективной и не пропускать все через собственную призму, как это делаю я. И память у нее не такая фильтрующая. А может, впрочем, это указывает только на более широкий круг ее интересов? А любопытно! Развратилась-таки и она. Думаю, что у нее дело пойдет. Несмотря на всю протокольность, ее слог ярок и дает образы.
Вот Lusignan, бедняжка, кажется мне, уже вся вышла и вряд ли что даст. А как я на нее надеялась! Пожалуй, больше, чем на всех остальных. Ее заела раздвоенность натуры; она слишком анализирует все, чтобы отдаться потоку чувств; но анализ ее, видно, недостаточно силен, чтобы победить чувства и перетащить их на свою сторону. Так, она ни в чем не доходит до конца и остается на перепутьи.
Я долгое время жила так же (первых года 3–4 по поступлении на курсы), но теперь, кажется, натура осилила, и я уже замечаю в себе бо́льшую гармонию.
Только, только… одного не могу достигнуть, да и вряд ли достигну! Ex nihilo nihil fit81…
Это мое единственное желание и стремление, и я его никогда, никогда не оставлю и не забуду. Без него я не могу жить.
Самообман? нет, вернее – надежда, скромненькая глупая надежда, прикрытая темным платочком, из-под которого выглядывают большие-большие, робкие, вопросительные, улыбающиеся и обещающие глаза, что когда-нибудь я что-нибудь маленькое-маленькое сделаю…
А может быть и правда – самообман… homo sum82…
9/XII. Тянет, тянет к тетради, как пьяницу к водке, но – воздержание! К тому же «Старинный театр в Европе» Веселовского прекрасная книга, и завтра ее надо вернуть. Поэтому – «Покинь, Купидо, стрелы…»83
12/XII. Шляпкинская экзаменационная комедия кончилась. Право же, это была комедия, а не экзамен. Для характеристики расскажу, как она производится. Назначен экзамен был в 10 ч. утра, но в 11 ч. Шляпкина еще не было. Кондратьева, с которой мы вместе готовились, т. к. книги доставали только на день-два и не могли ими делиться, пришла ко мне в 11 часов. Т.к. мы были записаны 9 и 10, то и решили, что раньше часу идти нет смысла. Ну, повторили у меня, что успели, затем «пробежались» (прогулялись) немного и к часу вошли в деканскую, где восседал побрившийся и подчистившийся Шляпкин, а против него девица, сдававшая отдел по «Слову о полку Игореве» и не знавшая даже самого этого произведения. Илья Александрович вытягивал ее во все стороны уже и все-таки ничего не мог вытянуть. Когда мы вошли, он, обращаясь ко мне, сказал:
– Вы сегодня экзаменоваться не будете?
– Нет, будем, Илья Александрович, мы ведь записаны, – довольно храбро ответила я.
– А, ну так вот вам картинки, развлекитесь и успокойте свои нервы (!); вы ведь любите такие вещи.
Он протянул мне папку с целой массой фотографических снимков с каких-то, по всей вероятности, фресок, церковных утварей и грамот с медалями и печатями на шнурках.
Мы с Кондратьевой стали их рассматривать.
Когда девица кончила (она была последней из экзаменующихся, таким образом, мы чуть не прозевали экзамен), пошла Кондратьева. Он ее спросил о Haupt’ und Stats’ акционах84, и пока она отвечала, И. А. вытащил папироску, из чего-то приготовленную поразительно хорошо, с пеплом, не осыпавшимся на конце, и небольшим янтарным мундштучком.
– Вот этим я всегда обманываю кондукторов, – протянул он мне показать папиросу. – Мне говорят они: «Извините, вагон для некурящих». А между прочим, имейте это в виду: прекрасная вещь от горловой боли. Здесь внутри минтол, он прекрасно действует. – И. А. назвал даже магазин, где можно купить, и цену.
Это обычные шляпкинские «интерлюдии».
Экзаменовалась Кондратьева минут пять, получила «весьма», и затем села я «пред светлые очи».
Один вопрос о «жалобных» и «прохладных» комедиях85, два вопроса о репертуаре Грегори, вопрос о театре Наталии Алексеевны, причем Шляпкин не преминул напомнить о своем открытии в этой последней области, награжденном шестисотрублевой премией86, – и экзамен был кончен.
Просто и хорошо.
Только «срамной экзамен», как я говорю.
Но теперь я на время свободна. Займусь для его реферата (вот глупое учреждение для моего возраста!) «белорусским вертепом» в связи с ролью в нем «волочебников»87 и подготовлю для Брауна отдел Шекспира88, или, вернее, английской драматургии в связи с ее влиянием на немецкую труппу Фельтена и затем на наш первый репертуар «потешной хоромины»89. Это последнее уже отсебятина. Но преинтересные эти два экзамена, и Рождество мое будет устроено хорошо, если не явится каких-нибудь великих помех, вроде добывания денег и изыскания занятий. Ах, как мне уж это надоело! Главное, я теперь опять увлеклась научными занятиями и как будто возвращаюсь к жизни первых годов на курсах.
Я думаю, что разговоры Туницкого прошли не без влияния в этом отношении. Если мы с ним увидимся в январе, он, может быть, опять найдет меня такой, какой я была в гоголевские дни, и таким образом «неповторимость гоголевской встречи» потеряет свою силу (выражение из его последнего письма).
Но бедный он: я вполне понимаю его ужасное состояние… Не пережила ли и я то же самое во время своей недавней болезни!..
Прошла ли она у меня или это только временный подъем?..
Но ах! если бы только не нужно было думать о завтрашнем дне!..
14/XII. Удивительное дело! Как это все мои гениальные мысли рождаются в месте, предназначенном вовсе не для них. Видно, недаром оно «кабинетом задумчивости» именуется…
15/XII. А «гениальная» мысль состояла вот в чем. Как-то в один из очень усердных вечеров после занятий к шляпкинскому экзамену мне захотелось опять поупражняться в писании на древнерусском языке. Но так как упражняться в посланиях себе самой скучно, то я и решила отправить такое послание Н. А. Котляревскому и им позабавить его немножко.
Ну и послала.
Через 3 дня получаю от него письмо: «Многоуважаемая Евлалия Павловна. Никак не думал, что Вы так хорошо пишете по-славянски. К сожалению, не могу ответить Вам тем же красочным языком.
№ телефона Вашего утратил, но все равно звонить бы не мог, т. к. ни минуты свободной не имею. Должен к 23 числу составить отчет II отделения Академии, который буду читать 29 декабря на собрании90. Должен написать некролог Ключевского91, принять всю Пушкинскую личную библиотеку92 и расставить ее в шкапы. Должен воевать с Савиной и присутствовать на десятках заседаний перед праздниками.
А мне очень хочется Вас видеть.
Черкните № телефона – я (но только поздно, не раньше 10 ч. вечера) выберу время.
Всей душой Ваш…»
Я сейчас же послала ему № телефона и, между прочим, написала, что мой «славянский (sic!!!) красочный язык» есть не что иное, как плод моего экзамена у Шляпкина.
А вчера мне захотелось подурачиться опять; заняться предсвяточным «маскалудством»93 другого рода.
И вот перед самым сном уже, в «месте, назначенном совсем не для них», мне явились мысли использовать как-нибудь в хвалебном духе столь великое прилежание Нестора Александровича, тем более что как раз сегодня утром я прочла главу из Варнеке о торжественных спектаклях, на которых превозносились и восхвалялись всевозможные заслуги великих мира сего.
Тут же придумалось и начало: «О коль Россия вся Тобою вознесенна, Един в семи делах муж разумом велик…» и все прочее94.
Только скверно, что я, начиная от воскресенья, совсем выбилась из сна. Раньше 5 ч. не засыпаю. А это потом плохо отзовется, уж я знаю… Опять наступит тоска…
17/XII. Чтоб они провалились, эти мои гениальные мысли! Вечно я с ними в беду впутаюсь. Чует мое сердце, что и теперь дело добром не кончится!..
Что ж, сама виновата, сама и страдай… Ох!..
Может, «комическая мистерия»95 выручит?
Или она тоже из области «гениальных мыслей»?
Идя сегодня в библиотеку, встретила милого Федюшу Фогта96. Он пошел вместе со мной до самой Академии наук. По дороге говорили, конечно, об их академических делах и успехах. Я сказала, что мне очень жаль, что Тото, который в этом году трудится много над своими работами, получил две третьи категории за свои эскизы, над которыми буквально просиживал целые ночи и дни. Федя заметил, что помимо того, что, в сущности, Тото мало работал еще вообще и за один год какой-нибудь трудно сделать то, что делают многие академики, всю жизнь занимавшиеся этим, бывшие и в рисовальных школах, и в разных художественных классах, и пр. – помимо всего этого «Тото совсем не старается выразить собственную индивидуальность в своей работе; он то делает под Савинова, то еще под кого-нибудь. И выходит, что он хоть и под Савинова делает, да Савинова все ж таки у него не выходит, и себя самого нет. Не трудится он над этим, а все готовое у кого-нибудь хочет взять».
И вот теперь вопрос: что этому причиной? Неужели недостаток таланта? Или, вернее, – чисто внешний его характер, т. к. рисунок, например, у Платона хорош, значит, рука и глаз есть.
«Неумение трудиться» – это наше наследственное и общедворянское – «неумение трудиться», при внешней работе даже…
Сомнения о степени его действительной, а не кажущейся только талантливости начали приходить мне в голову уже давно, а несколько времени тому назад один разговор с ним опять возобновил их и даже еще усилил.
Пришел как-то Тото ко мне усталый и измученный до такой степени, что едва говорил. Это было недели полторы назад.
Отсидевшись несколько минут молча в кресле, он начал рассказывать о своих делах и между прочим сказал: «Удивляет меня одно обстоятельство: чем больше я начинаю задумываться над своей работой и что называется – стараться, тем меньше она мне удается. Когда я подхожу к работе не так серьезно, полушутя, – она выходит и несравненно легче для меня самого, и в тысячу раз лучше; чем больше я углубляюсь в дело, тем меньше оно удается, и я в конце концов теряю способность работать». Что это – недостаток таланта, который не может удовлетворить собственных требований; малое развитие техники; или же – талант причудливый, творящий только по вдохновению, а не благодаря усиленному и упорному труду, но все-таки талант? Дай Бог, чтобы было последнее. Ведь от Мочалова нельзя же отнять таланта, хотя он иногда портил свои роли, играл из рук вон плохо, и часто – когда больше всего трудился и старался – больше всего проваливал пьесу. Зато иногда игра Мочалова была «откровением таинства, сущности сценического искусства», по выражению Белинского97.
Мне кажется, что если у Тото то же самое, то это только еще больше доказывает его славянскую натуру, во-первых, и казановичевскую породу, во-вторых. Ведь были же у Паши98 3–4 раза в его жизни, когда он играл так, что все, кто его слышал, говорили, что всю жизнь помнят эти минуты. Было то же самое и у отца… А ведь иной раз когда тот или другой брались за скрипку, так хоть из дому вон беги.
И в конце концов при всей своей одаренности они не сделали ничего, как и все Казановичи. Байбаки99… Теперь вопрос: выдержит ли талант Платона работу? Может быть, он об нее так же разобьется, как некоторые самородки, не переносящие шлифовки?
А жаль. Да и обидно! Никто из нас ничего не сделает. Дармоеды и «ленивые рабы, зарывшие талант в землю»100…
22/XII. Ларчик просто открывался! Все мои вопросы и сомнения Тото разрешил очень легко.
В воскресенье вечером (18-го) приходит он по обыкновению ко мне, и что-то в очень веселом настроении, которого я у него уже давно не видала.
Берет набок, физиономия обмороженная, под плащом что-то торчит.
– Извините, сестрица, что я к вам сегодня в таком легкомысленном настроении явился, и принес еще более легкомысленное приношение с собой. – С этими словами он вытащил из-под плаща две завернутые в бумагу бутылки и подал их мне.
– Что это значит, милый брат, по какому случаю?
– Да просто захотелось выпить! С утра у нас с Сашей101 сегодня такое дурацкое настроение. Ну я и решил выпить вечером во что бы то ни стало. И об выпивке не я один мечтаю: куда ни сунусь – везде только и слышу одно: «Как бы хорошо выпить!» Все наши академисты только об этом и мечтают. Устали – надо отдохнуть, обновить кровь; недаром же праздники.
– А деньги откуда, получил? – (Я знала, что у него уже около 2‑х месяцев ни гроша, и только в недалеком будущем предстоит получить немного за одну работу.)
– Нет еще.
– Так что же это? – указала я на бутылки.
– Ах, sister102, ну достал полтора целковых у доброго человека, вот и все.
– Ты бы уж лучше на них пообедал; а то посмотри на себя, на что ты похож!
– Я сегодня и пообедал. А это – ну не все ли равно, на что я деньги истрачу: один или три дня они у меня пролежат. Ну, завтра опять не буду обедать. Эка важность! Зато сегодня хорошо!
Он знал, что я не захочу нарушать его хорошее настроение воркотней на его бесшабашность, и потому пришел ко мне с вином.
Маму, которая пришла уже раньше, мы тоже настроили соответствующим образом, так что больше речи о бесполезной трате денег не было.
По случаю моего «jour’а»103 пришли Черняки и Г. Г. Манизер104, но Черняков скоро вызвали пришедшие к ним гости, а мы остались.
Тото смеялся, шутил и добродушно острил. Когда он в таком настроении, он обыкновенно бывает очень мил и интересен. В нем замечательная способность держать себя очень просто и острить, не переходя границ, и хотя его остроты бывают очень метки, не в бровь, а в глаз, как говорится, но в них нет яду. Не бывает у него и так называемых «неудачных» острот, которыми так часто страдает его сестра!..
В такие минуты он является общим воодушевителем и миротворцем. Никто лучше его не расшевелит компанию и не выдумает что-нибудь веселое и забавное. Так же прекращает он и всякие ссоры и недоразумения.
Еще когда он был гимназистом, старшие братья не раз подпаивали его, говоря, что он в таком виде лучше, чем в трезвом.
Это, конечно, была неправда, т. к. и в трезвом виде Платоша обладал удивительной добротой и мягкостью. Правда, он был упрям, плаксив, легко обижался и дулся, но его всегда ничего не стоило вызвать на самый хороший поступок лаской и добрым словом. К сожалению, часто бывало как раз обратное.
Зато когда его немного подпаивали – все его лучшие качества ярко выплывали наружу; всем старался он в эти минуты сделать что-нибудь приятное, извинялся за свои прежние грехи, обещал маме больше никогда не грубианить [так!], если мама обращалась к кому-нибудь резко или начинала ссору с отцом – Платон и тут являлся миротворцем, целовал ей руки, умолял ее успокоиться, приводил всевозможные резоны и иногда достигал цели.
О, сколько в нем было хороших задатков и какого чудного человека можно было из него сделать!
К несчастью, у нас никогда не было мира в семье, сколько я себя помню, и все это больно отзывалось на детях: мы никогда не были дружны между собой и до сих пор знаем, что такое «семья», только понаслышке.
Конечно, плоды этого сейчас налицо.
Только уже будучи на курсах, я подружилась с Платоном больше, а окончательно – в год его окончания гимназии, за время его последней болезни и операции. Первое время в Петербурге мы с ним тоже были дружны; но потом его увлекла другая компания, люди с другими интересами и взглядами на вещи, затем приезд Вени (Платон со своим большим сердцем не мог понять моей нетерпимости ко многим поступкам и взглядам Вени), это ужасное лето, проведенное нами в Петербурге (следствием его была моя неврастения и все прочее), затем мое переселение на отдельную квартиру и многое, в чем часто и во многом была виновата я сама или, вернее, – моя натура.