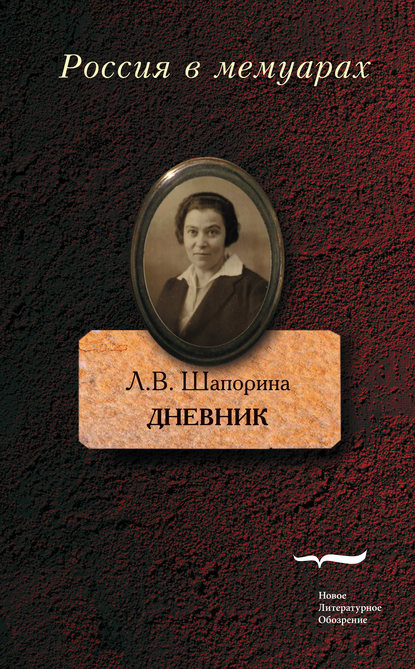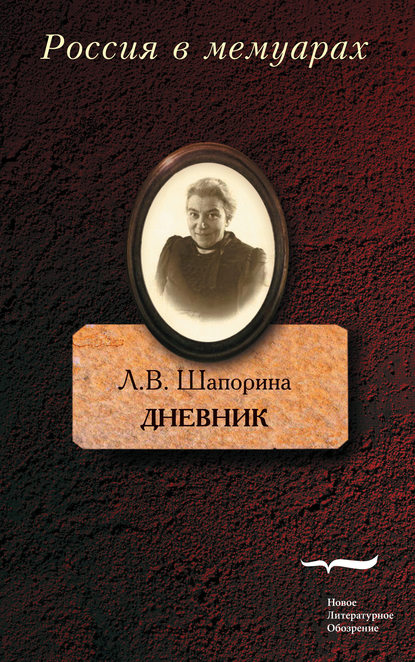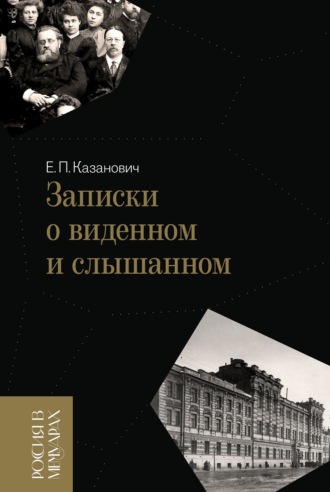
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
Закончу и я. Надо кончать свою работу49 и тогда садиться за экзамен.
Боже, я никогда не кончу курса?.. Это меня приводит в отчаяние! «Работа» настроила меня на такой лад, что я с ужасом думаю об экзаменационных книгах. Вообще, эти две вещи я совмещать не могу и потому в большинстве случаев не делаю ни той, ни другой: за одну не позволяю себе браться, пока не кончу курсов (вот, курс не выдержала, «сорвалась»). К другой не могу себя принуждать без того, чтобы не впасть в меланхолию.
27/XI. «Работа» кончена и сегодня или завтра будет отдана Пругавину. Что-то будет, что-то будет!..
А вот с другой работой так история! Прихожу вчера в Академию наук повидать Нестора Александровича Котляревского50.
[…]51
Собираюсь уходить:
– Постойте минуточку. Ответьте мне только на один конфиденциальный вопрос.
Подходим к окну в маленьком старом конференц-зале с портретами.
– Что такое Лидия Семеновна52 собой представляет?
Я удивлена и сначала не понимаю, в чем дело.
– Да видите ли что. Она мне прислала свою рукопись – помните, я еще посадил ее при вас? Я не знал, что вам ничего не известно. Ну, читал я ее, читал, и, право, не знаю теперь, что с ней делать. Несколько страниц там, правда, недурны и написаны с подъемом, а все остальное никуда. Я ей и посоветовал выписать только их. Теперь она мне их прислала опять, и мне хотелось бы знать, очень ли на нее подействует, если ей рукопись будет возвращена. Как, у нее большое самолюбие?
– Думаю, да. Впрочем, она в большой мере чудачка.
– Это последнее заметил и я. Но дело в том, что я совершенно не представляю себе, что я могу сделать с ее рукописью? Теперь я послал ее в одну редакцию; если оттуда вернут – пошлю в другую, но больше я ничего сделать не могу. Как бы вы ей это как-нибудь передали?
– Да, это будет жаль, тем более что она уверена, что то, что вы признали годным, уже действительно хорошо и, значит, имеет шансы быть напечатанным. Конечно, как-нибудь подготовить ее к этому я могу, а только это неприятно.
Я ушла.
А чудачка эта Ли, действительно! И как курьезно она с этой рукописью поступила.
28/XI 1911 г. Перебирала сегодня отцовские бумаги и нашла среди них свой старый перевод с французского «Черной дамы», сочинения для детей неизвестного автора. Я сделала его еще будучи в гимназии и отправила к отцу в первый год его приезда в Петербург, в надежде, что он его устроит куда-нибудь. Конечно, он его, верно, никуда и не показывал, т. к. перевод, вероятно, достаточно плох. Сейчас нет охоты перечитывать53.
И еще перевод с немецкого Фортлаге «Изложение и критика доказательств бытия Божия»54. Это уже труд первого лета по поступлении на курсы, но тоже, верно, плох невозможно, т. к. от философии я еще тогда только начинала вкушать, и воображаю, какую галиматью там напереводила!
Для чего держал их отец так долго у себя?55
Только что отнесла Пругавину свою рукопись и как-то совершенно спокойна. И к чему только была эта таинственность, это название «Работа», чуть ли не с большой буквы и уж конечно в кавычках! Терпеть не могу в себе этой манеры заигрывать; в особенности с собой она глупа. К сожалению, она даже является одним из признаков…56
После обеда. А говорил мне старообрядец на пароходе вот что приблизительно:
– Ты хочешь поговорить со мной? Изволь, милая; только приди попозже, я теперь не свободен.
Оказывается, старик молился.
Часа через два спускаюсь опять в 3‑й класс и нахожу старообрядца на прежнем месте. Он уже отмолился и складывал лестовку57.
Было душно. От машины воняло, и махорка прибавляла свое. Пассажиры осматривали меня с недоумением: «Чего, мол, такая пришла; что ей тут надо?»
Я села рядом со стариком.
– Ты что ж, веры ищешь?
– Нет, дедушка, я Божьих людей ищу, да вот еще интересуюсь, кто какой веры.
– Так. Никонианка?
– Никонианка.
– Ну что ж! По мне во всякой вере спастись можно, надо только жить по-Божьи.
– Конечно, дедушка, и я так думаю. А не скажете ли вы мне, зачем надета на вас эта пелеринка? Вы ведь старообрядец?
– Вишь ты, как ты сейчас спрашиваешь! Сразу уж до сути доходишь! А ты погоди, мы с тобой прежде так потолкуем. Хочешь, что ли?
– Конечно, дедушка, спасибо.
– Ох, как это ты нехорошо молвила!
– Что, дедушка?
– Да кого ты сейчас назвала?
Я с недоумением посмотрела на него.
– Никого не называла.
– А последнее-то слово твое. Не знаешь разве, кто Ба был?
– Какой ба? – недоумевала я еще больше. – Вы это про «спасибо» говорите?
– Ну-у. Вот и все вы так, никониане, говорите. А забыла разве, что Ба был идол языческий, и когда ему молились, так говорили «спаси Ба»? Значит, выходит, и ты идолу молишься? А ты скажи: «спаси тебя Христос», или просто – «Бог спасет!» Ну, скажи-ка.
Я невольно улыбнулась и повторила за ним обе фразы.
– Вот как язык-то к скверному привык. Неловко тебе христианское-то слово и молвить даже, – укоризненно покачал старик головой. – Ну да ничего, попривыкнешь. И помни, милая, что когда так говоришь, так Бога истинного призываешь, а когда так, как давеча, так нечистого тешишь. Вот это тебе на начало.
– Буду помнить, дедушка, – покорно отозвалась я.
– То-то, милая, помни. Что ж, продолжать дальше-то? Хочешь еще послушать?
– Непременно, дедушка, непременно.
Мне было смешно и в то же время интересно, что будет дальше.
– Это хорошо, что в тебе покорность есть, – довольно отозвался старообрядец. – Ну так слушай. Ты знаешь, как читается первая заповедь, данная Господом Богом Моисею на Синайской горе?
– Знаю.
– А ну прочитай-ка.
Я прочла.
– А теперь скажи, много ли ее люди исполняют? Подумай, ты сама исполняешь ли? Там что сказано? «Не будет тебе Бози инии разве мене», а ведь вот у вас в городе и тиатры себе понастроили, и музыку завели, и за деньгами гонятся, и за платьями, и за именьями, и за всем, что хочешь. Только Бога истинного забывают! Вот в субботу или в праздник, скажем, нет чтобы взять священное писанье да почитать, да подумать о Боге, помолиться, побыть в духе с Богом, – а у вас сейчас разрядятся, разоденутся, обвесят себя золотом и бриллиантами и наместо церкви – в тиатр али на бал, аль еще куда в гости. А что сказано? – «Помни день субботний, еже святити его», и «день же седьмый – суббота Господу Богу твоему». Ведь так я говорю, делают у вас так?
– Делают.
– И ты делаешь?
– И я делаю.
Меня начинала забавлять моя нечаянная роль кающейся грешницы, наставляемой на путь истины.
– То-то, милая! А это и не по-Божьи. Ну потом вот еще про золото да про бриллианты эти самые. Ведь вот иная, которая так для забавы одной или для прельщения обвесится ими, а бедный человек возле нее с голоду помирает. Ты вот, скажем, идешь в тиатр веселиться, а по дороге нищий у тебя попросит, так ведь ты и не посмотришь на него, и подосадуешь еще, зачем помешал веселию твоему. А человек этот, может, с голоду помирает, может, дети у него дома без хлеба сидят, а ты на веселье идешь. Бывает, что и есть у тебя деньги, и лишние, да не дашь, не обратится сердце твое к несчастному, не услышишь его даже. Ведь опять правду говорю? Бывает?
– Бывает, – я опять согласилась.
– То-то. Вот со мной случай раз какой произошел. Был я в городе по делам разным, и плохо мне так было: и холодно, и голодно, потому неудача в делах наступила. Только иду это я по улице, замерз совсем. «Хорошо бы поесть», – думаю, да и давай щупать в кармане, не завалилось ли монеты какой. И что ж ты думаешь! Вытащил гривенник. «Ну, истинно, – думаю, – Господь послал, сжалился надо мной, зайду сейчас в трактир, чайком погреюсь», – да и завернул на крыльцо. Слышу сзади жалобно таково и слабо-слабо человечий голос: «Подайте Христа ради…» Инда сердце у меня захолонуло, такой голос жалостливый. Я возьми да и сунь ему монету ту в руку. И про чай забыл. Так, понимаешь, в ноги мне человек Божий: «Спас ты меня, говорит, я уж топиться хотел, сил моих больше нет…» И такая радость мне настала, такая радость, что я тебе и сказать не могу. Человека спас! Вот ведь каково бывает, милая! Истинно уж не по грехам моим милостив ко мне Господь. Так я этого человека никогда и не забуду, так и стоит он всю жисть передо мной…
Старик прослезился.
– И помни, милая, что и ты человека спасти можешь.
Он на минуту умолк. В это время к нам подошел развязный парень в «спинжаке» с папиросой в зубах, обнимая за талью молоденькую мещаночку в белой кисейной блузке с голой шеей и короткими рукавами.
– Ну, рассказывай, рассказывай, старик! Послушаем и мы, коли путное что говоришь, – бесцеремонно проговорил парень, разваливаясь обоими локтями на стол, стоявший перед нами, и пуская в нас клубами дыма.
– Что ж, послушайте. Слушать никому не возбраняется. «Имеющие уши да слышат», – ответил старик, но затем угрюмо отвернулся от дыма и, почти повернув к ним спину, заговорил тише прежнего.
– Ты, давеча видел я, тоже употребляла это зелье?
– Да я от комаров, дедушка58.
– Понимаю, что от комаров, а только и то не следует…
При этом старик рассказал какую-то легенду о «поганом зельи», которой я, к сожалению, сейчас совсем не помню. Вообще, я не запомнила очень многого из его рассказов, т. к. была смертельно уставши.
– …Душу врага тешит тот человек, что курит, – закончил старик свое повествование и как-то вбок оглянулся на парня.
– Еще вот что я тебе скажу, милая. Седьмую заповедь ты помнишь?
– Помню.
– Грешна по ней?
– Ну нет, дедушка! – не могла я опять удержаться от смеха.
– А ты не думай, милая, что если ты девушка, так и не грешна. Ты словом и помышлением не грешна ли? Не случалось ли, что подходила к мужчине не как к брату? А ведь и это грех, милая, большой грех…
Он опять косо оглянулся на появившихся. Те встали и ушли.
– Это я больше для них говорил, – пояснил старик, указывая глазами в сторону удалившихся. – А только и ты послушай, что Господь сказал: хорошо, кто имеет одну жену и живет с ней честно; а еще лучше, кто совсем не имеет никакой и хранит свою чистоту. Конечно, это трудно, не всякому дано; а только если жить по-Божьи, так надо воздерживаться. Все мы – братья и сестры и должны жить чисто, по-братски, не по-скотски. Вот тоже и смеяться так с ними грех… Ты ведь не одна едешь? Я даве видел тебя с кавалерами.
(Откровенно говоря (в дневнике ведь все можно), я покраснела (что значит непривычка к подобного рода разговорам!), но…). Я отвечала утвердительно, т. к. кроме бывшего с нами на Светлом озере медика, мы с Островской познакомились уже на пароходе с одним казанским доктором и старичком-лесничим, которые, сжалившись над нашим измученным видом, предложили нам отдохнуть в их каюте, чем мы с благодарностью воспользовались, после чего уже, разумеется, быстро разговорились.
– Что же, это сродственники твои?
– Нет, чужие.
– То-то, чужие, – старик укоризненно покачал головой. – Оно, конечно, трудно в миру спастись: враг смущает! В скит идти надо, кто может вынести. Только и это трудно. И тут враг… Вот ты давеча спрашивала про это, – старик указал на свою пелеринку, – это скитская и есть; в скиту я, значит, живу.
– И все у вас так ходят?
– Да кто – все; я ведь один. Я, видишь ты, милая, в женском скиту живу.
– Как в женском, почему? Или вы там за сторожа?
– Бывает и так, что дрова им ношу, воду, скотину пасу. А только попал я туда через чудо… Лежал я в болезни и умирал совсем; и было мне видение и голос…
– Какое, дедушка, можно рассказать? – спросила я с большим любопытством.
– Да как тебе такой об этом рассказывать! Не очистилась ведь ты еще.
Видно было, что ему не хотелось говорить о своем видении, и я, конечно, не настаивала.
– А в скит к вам приехать можно?
– Отчего ж, если испробовать себя хочешь – приезжай. Только трудно у нас жить: и бедно, и грязно, и серо, и работать самой все надо. А ты ведь, поди, не привыкла.
– Ну а если не жить, а так только на время приехать посмотреть?
– И то можно, мы никого не гоним. А только так ты ничего не узнаешь. Пожить с нами надо, милая, потрудиться… Вот если сможешь так – приезжай, а то (так) и не стоит.
Мы поговорили еще немного, и я встала.
– Ну, спасибо… или нет – спаси вас Христос, – поправилась я. – Так, дедушка?
– Так, милая, так. И «вы» говорить не надо: все мы други, все мы братья во Христе, все грешны! А только помни, что я тебе рассказывал. Особенно помни, чтоб милостыню творить, потому Господь сказал: «Кто накормит и согреет единого от малых сих – тот ублажит душу Мою, а кто отвернется от просящего и не отверзет толкущему – тот отвернется от Меня». И еще говорил: «Дети, любите друг друга…» Вот если хоть эти две заповеди будешь стараться исполнить – благо тебе будет на небеси.
– Вы грамотный, дедушка?
– Нет, голубушка, не случилось обучиться. Так помни заповеди-то.
– Буду помнить, дедушка, до свиданья; может, придется еще когда увидеться.
– Нет уж, где нам с тобой увидеться! Разве в лоне Отца небесного. Прощай уж, милая.
Я протянула руку. Старик не взял и, покачав головой, сказал ласково, как бы прося не обижаться:
– Не надо. Лучше мы с тобой так просто простимся, издали.
– Ну, как хотите!
Мы поклонились друг другу, и я ушла.
А когда в Козьмодемьянске59 я увидела его фигуру, молча и как бы укоризненно наблюдавшую за тем, как мы веселой гурьбой сошли с парохода и новые знакомые пошли нас проводить на волжскую пристань, помогая нести наши дорожные принадлежности, – мне сделалось как-то неловко. Точно я самым бессовестным образом обманула этого старика…
Да оно, в сущности, так немножко и было… и боясь и не желая этого, я не заговаривала сама почти ни с кем из настоящих богомольцев на Светлом озере.
Ну-с, с изложением этого последнего эпизода моего путешествия на Светлое озеро кончается и двухнедельная поэзия моей жизни последнего времени. Завтра надо браться за экзамены… Хватит ли у меня сил на это? Я теперь совсем не в состоянии читать. Когда я пишу, я не могу читать; а если я настрою себя на книжный лад – я не в состоянии буду писать. А мне так хочется написать еще одну вещь, и сейчас я чувствую в себе настроение.
Ужасно быть запоздалой «несжатой полосой»60…
А все 1908–9 год, угол Малого [проспекта] и 11‑й линии!..61
Больно отзывается прошлое.
Чтобы уже окончательно покончить с поэзией, нужно сказать еще два слова о письме Думина.
Какое удивительно отрадное впечатление оно произвело на меня. Какая широта и свобода понимания у этих людей, недаром называющих себя «сынами свободы»62. Какая интеллигентность мысли при всей безграмотности ее письменного изложения. И как чувствуется в этом письме, что душа одного человека говорит непосредственно с душой другого; какая простота и естественность в обращении, нам, интеллигентам, совершенно не знакомая.
Я понимаю теперь то наслаждение, которое должен был черпать Толстой в переписке и общении с этими людьми. Истинно христианская свежесть и чистота души. И смешной кажется мысль, что то – необразованный мужик, а ты – барин и интеллигент, до такой степени самой сущностью нашего человечества соприкоснулись мы с ним.
При первом же случае съезжу к указанному им Дмитриеву.
Только экзамены!.. Они отравляют мне существование. Слишком тесна для меня теперь шкурка учащейся. Свободы хочется, развязанных крыльев.
– Ну, только, пожалуйста, не впадать в лирику.
И все-таки пакостно на душе…
29/XI 1911 г. Вчера купила себе массу конвертов, целых 50 штук, и счастлива. Ужасно люблю, когда у меня очень много разных письменных принадлежностей: бумаги всяких видов и форматов, карандашей, перьев… К сожалению только, этого никогда не бывает, и это для меня такая же неосуществимая мечта, как 300 пирожных зараз. Неужели я всю жизнь буду таким голышом и пролетарием?
Похоже!
Слава Богу, что теперь хоть относиться к этому стала легко. Тото, верно, заразил.
Впрочем, мне далеко до него. Вот истинный Диоген!
Позже. Сегодня я проснулась с рождественским настроением и принялась за новое писание. Совсем новое! Мысль об нем проснулась сегодня впервые вместе со мной63.
А экзамены все стоят…
Вот скандал! Вчера не состоялось заседание исторического общества! Были назначены два доклада: «Крестьянские волнения в Дофинэ в конце XVIII века» и еще какой-то, не помню. Собрание должно было быть открытым, и вот явилась полиция. А и народу-то было немного, по словам Маши [Островской]: всего два с половиной человека в IV аудитории университета. Кареев предложил полиции уйти, та не согласилась; тогда он закрыл заседание.
Еще возможны в наше время такие случаи!
Ведь как-никак это же научное заседание, не сходка! Маша и пришла в 10 часов прямо оттуда и рассказала64.
Зашла днем на полчаса к мамочке, и посидели мы с ней немножко обнявшись на диване. Этого почти никогда не бывает, и она, бедная, была так рада.
А отчего не может быть все иначе?
Впрочем, теперь поздно, и в конце концов, виноватых нет.
Или есть?..
Еще позже. Нет, но до какой степени изменчив мой почерк! Я могу в продолжение одного и того же дня двадцать раз изменить его; пожалуй, даже и сама когда-нибудь не узнаю своей руки, не то что другие.
А ведь характер мой, в общем, кажется, довольно устойчив?
30/XI 1911 г. Сегодня Шляпкин рассказал65, как происходят иногда ученые прения.
Дело шло о Федоре Черном, князе Смоленском и Ярославском, сделанном потом святым, а на самом деле – мерзавце большой руки, как отозвался об нем Илья Александрович.
Возникло недоумение, почему он был князем двух столь далеких друг от друга областей?
Соболевский, на основании данных языка, почерпнутых им из договорных грамот, хотел доказать, и думал, что сделал это в своем докладе на эту тему, что князем этих областей он был потому, что в Ярославской области население состояло из тех же кривичей, что и в Смоленской.
Тогда И. А., как «язычник» – так он про себя выразился сам, – спросил у него:
– А скажите, пожалуйста, Алексей Иванович, сколько грамот было у Вас для этого исследования?
– Змеиный вопрос, – (И. А. представил, как Соболевский, заикаясь, прошипел эту фразу, и при этом заметил: – Ну, вы ведь знаете, что Алексей Иванович вообще человек довольно свирепый!), – сами знаете, что две!
– Ну, а при двух грамотах (это уж И. А. объяснял нам) как же можно считать вопрос доказанным? Вы же сами понимаете, что эти грамоты могли быть написаны писцом, которых [так!] князь привозил с собой обыкновенно из Киева. Здесь еще следует доказать прежде, какой писец, местный смоленский или киевский, их писал, чтобы установить, влияние языка какой местности в них отразилось.
– Ну а после меня, – продолжал И. А. свой рассказ, – поднялся С. Ф. Платонов, да уже как историк, понимаете, его спрашивает: «А скажите, Алексей Иванович, где сказано об этом в летописях?» – Ну а в летописях, вы же знаете сами, ничего не говорится о том, что в Смоленской и Ярославской областях были кривичи. – После встает Середонин и уже как до некоторой степени изучавший географию древней Руси спрашивает: «Не укажете ли мне, Алексей Иванович, общих географических названий в этих двух местностях, как мы это видали в других случаях, когда один народ переходил на новое место и переносил туда свои старые названия?» – После Середонина, понимаете ли, встал Спицын; тот, знаете ли, археолог, да и тоже: «Насколько мне известно, Алексей Иванович, и различные обычаи и обряды, вот погребения, например, совершались у них по-разному». – Тут уж, понимаете ли, Соболевский не выдержал да как набросится на нас: «Да что я вам, волк, в самом деле, что вы на меня как собаки все напали!..» – Мы, понимаете ли, все как один так и рассмеялись, и – необыкновенно редкий и счастливый случай – рассмеялся и сам Соболевский.
– Да, не всегда так мирно кончаются научные дебаты, знаете ли! – закончил И. А. свой рассказ. Мне он очень понравился, и воображаю себе ярость Соболевского и его шипение: «Змеиный вопрос!» А Платонов таки свой, верно, и предложил по-змеиному, он на это мастер! Шляпкин слишком добродушен, и он может предложить ядовитый вопрос, но тон у него не может быть, мне кажется, ядовитым.
Сейчас заходила ко мне Lusignan и рассказывала о своих делах в обществе ориенталистов66. Воображаю ее, одну женщину среди этих 55 мужчин, совсем не привыкших к подобному появлению. Да еще когда председатель посадил ее рядом с собой за стол, и ей пришлось излагать свое дело и затем его отстаивать. Воображаю! Она говорит, что там члены все дипломаты, ну или из дипломатического корпуса, во всяком случае.
Сегодня получила от Пругавина приглашение прийти к нему завтра (четверг – приемный его день) прочесть свою рукопись. Вот положение!!
Что ж делать! Пойду, только нарочно пораньше, пока у него еще никого не будет.
Неужели действительно я завтра засяду за экзамен и сдам его 12‑го, жульническим манером, понятно? Но тогда начатая вчера вещь, наверное, останется недоконченной и – прощай, вольная жизнь! А также и дневник…
Сейчас прочла исповедь протопопа Аввакума67 и не могу понять, как могло сложиться такое общераспространенное мнение об его упорстве, тупом фанатизме и непримиримой ненависти ко всем «инако верующим»? По-моему, более кроткого и всепрощающего существа трудно найти среди раскольников, а если бы он не был фанатиком, каким же был бы он расколоучителем, и проповедником вообще?
Тупости тоже в нем нет, т. к. его автобиография обнаруживает в нем человека с чуткой душой и тонким пониманием даже красот природы. Изложение же показывает человека, наделенного литературным даром. Правду говорил Тургенев, что русским людям следовало бы поучиться у Аввакума чистоте русского языка68; хороший язык, образный, а эпический тон всего повествования придает особый, кроткий и умиротворяющий колорит всем рассказам о мучениях и избиениях (чуть ли не на каждой странице его бьют), которым был подвергнут несчастный протопоп со своей протопопицей.
И вот образчик образности языка:
Пашков говорит ему: «Для тебя дощеник худо идет… поди-де по горам», – и Аввакум рассуждает по этому случаю: «О горе стало! Горы высокия, дебри непроходимыя, утес каменной яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову; в горах тех обретаются змеи великие…» и пр. и пр.
1/XII 1911 г. Сегодня опять идет снег, сильный такой снег! И настроение то же, что третьего дня. Хорошо бы пописать!..
Но нет. Надо идти в библиотеку за новым изданием Морозова69, и тогда в 11 ч. придет Корнилова, Кондратьева70 – как ее там, не помню. Вместе читать. Только это меня и спасет, одна я не выдержала бы. А вдруг мне удастся и экзамен сдать, и настроение сохранить?..
Для последнего нужно только непременно каждый день думать хоть понемножку о предмете.
Только вряд ли, это был бы такой сюрприз себе самой, которого я от себя вовсе не ожидаю.
Вчера я заговорила про жульническую манеру, какой намерена сдать экзамен.
Но, в сущности, жульничества с моей стороны нет, а со стороны Шляпкина только понимание положения и отсутствие мелочной придирчивости.
Дело происходило так…
Еще раньше я спрашивала Шляпкина, будут ли у него экзаменационные сроки в конце декабря месяца71, т. к. к началу я не успею приготовиться. Он мне ответил: «Мы это с вами как-нибудь частным образом устроим, сговоримся».
Я поняла это так, что он меня проэкзаменует вне срока, как это он делает, и подхожу к нему вчера с тем же вопросом.
– А почему вам не экзаменоваться двенадцатого?
– Потому что я не успею.
– Как, за 12 дней вы не успеете ничего прочесть? Что-нибудь да прочтете. Вот и приходите.
– Но что же я могу? Одного Морозова да Варнеке две книги? Веселовского даже и достать негде72.
– Да, Веселовский редкая книга; ну что ж, достаточно будет Варнеке, это хорошее сочинение, и Морозова. Ведь я же знаю, что вы человек рабочий. Приходите, приходите.
Я поблагодарила. Вот и все. Есть жульничество?
И да, и нет. Как посмотреть.
Да, он еще спросил, почему я после Рождества в таком случае не проэкзаменуюсь, а я сказала, что – я же очень засиделась на Курсах, и надо мне их поскорее кончать.
– Вы 1903 года? – спросил Шляпкин.
– Ну нет, еще не до такой степени поздняя. Я 1906.
Неужели могут быть еще с 1903 года? Бедняжки!
– И что ж, у вас много работы? Над чем вы теперь работаете?
Они по старой памяти думают, что я еще работаю «над чем-нибудь»…
2/XII. Да, всей душой, всем сердцем…
Это я ответила на свой внутренний вопрос и теперь могу продолжить.
Пошла вчера к Пругавину читать свою рукопись.
Какое дурацкое положение человека, которому приходится читать свое творение вслух. Исключением будет только тот случай, если произведение имеет научный характер.