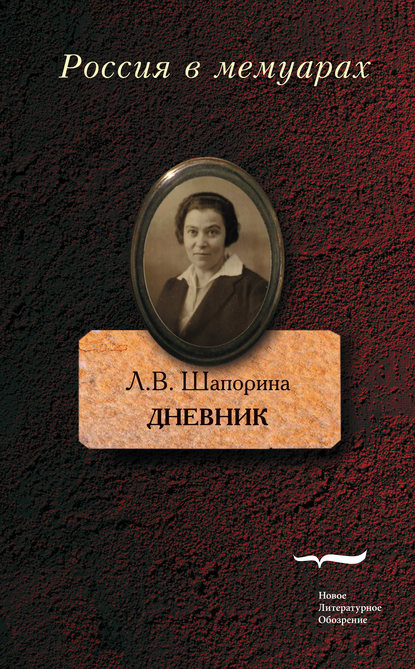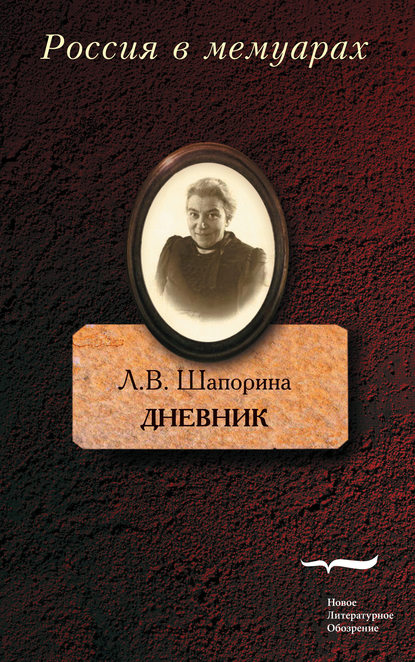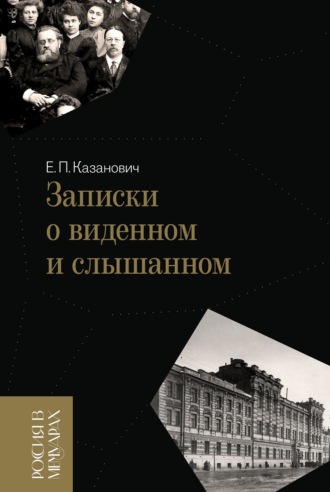
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
Иван с чертом был тоже неподражаем.
20/XI 1911 г. СПб. Скорей, скорей кончать дневник Дьяконовой11 и скорей позабыть об нем.
Как тяжело его читать! Это не какой-нибудь чувствительный роман, это даже не исповедь души в произведениях Достоевского, где в конце концов все же не знаешь наверное, что пережито, а что придумано, где кончается Wahrheit и где начинается Dichtung12. Это шаг за шагом все, что было с этим человеком (а не с каким-нибудь вымышленным персонажем) в действительности; а если во многом находишь сходство с собой, как в фактах, так и в переживаниях, – то невольно ждешь и результатов тех же…
Впрочем… если бы не такой страшный холод в комнате, жить бы еще было можно; а то коченеют и пальцы, и мозги. Брр!!..
Позже.
– Работайте, из Вас выйдет хороший ученый, у Вас все задатки к тому есть: ум, строгая логика, интерес, и главное – твердый и непреклонный характер. Мой завет Вам перед отъездом – работайте, кончайте скорей курсы и работайте! —
Милый, наивный Туницкий13! В моих письмах он вычитал строгую логику, а твердость и непреклонность характера увидал в почерке!.. Просто и хорошо, если бы я только могла этому поверить.
А растревожил он меня порядком. Уже больше недели, как мы с ним расстались, а я все еще вижу перед собой его доброе лицо с высоким белым лбом, слышу его душевный голос: «С такими способностями человек пропадает! И никто этого не видит в вашем противном Петербурге, никто не окажет помощи и поддержки. Переезжайте лучше к нам в Москву, мы вас хорошо устроим, вы будете иметь возможность работать. Впрочем, вы ведь сами такая гордая, не хотите ни к кому обратиться… даже мне сказать не хотите. А я всей душой рад был бы помочь вам…»
Милый, славный человек, как я рада, что познакомилась с ним поближе. И не верит, что я ничего не в состоянии сделать, что способности во мне только внешние, что я из породы Рудиных и Тентетниковых14!
Впрочем, он меня ведь совсем не знает, а по наружности мало ли чем может показаться человек. Человеко-боги часто создаются таким именно образом.
23/XI 1911 г. Вчера была в Философском обществе15 на докладе Суханова «Патология морального чувства». Доклад был жидкий и ничего мне не дал. Прения тоже, за исключением двух-трех отдельных замечаний Александра Ивановича [Введенского] и Лапшина.
Входя с лестницы в длинный темный университетский коридор (заседание на этот раз было в V аудитории), я увидела одинокую фигуру Суханова. Он ходил взад и вперед и, видимо, волновался.
– Здравствуйте, Евлалия Павловна, – подошел он ко мне. – Я смущен, да, да, я смущен, – торопливо и сбивчиво начал Суханов, вставляя по обыкновению по несколько раз словечко «да». – Вообразите, да, там такая масса народу! Я никак не ожидал, да, да…
– Еще бы, ожидается такой интересный доклад, – любезно, но вполне искренно отозвалась я.
– Да нет, помилуйте, да, я думал, никого не будет.
Комик этот Суханов! Он типичный психиатр, с целой массой непонятных обыкновенным людям странностей и маленьких чудачеств. «Психастеник», как мы его называем16.
Тороплюсь занять место.
Аудитория оказывается далеко не полна. Абсентеизм17 философов – полный, зато большинство публики, по обыкновению, дамы.
Грустно видеть А. И. председателем на таких заседаниях. Безусловно, человек сам создал подобное положение; но видя его председателем в лучшие времена этого общества, когда стол под зеленым сукном и ближайшие места украшались красивыми умом и знаниями головами, с его собственной в центре, горькая обида за него невольно подымается в душе. Такой умный и далеко не плохой человек не мог создать себе приличного для него положения, не говоря уже о друзьях, которых у него нет среди мужчин. При входе вижу Рафаилович на первой скамье, с массой локонов, неизменным белым крахмальным воротничком на синем платье и обычными, мещански-жеманными позой и манерами.
Поздоровались. Она сидела с Павлиновой.
– Возле нас есть место, хотите?
– Благодарю, – отозвалась я и села.
Сейчас же подошли знакомые студенты. Здороваются. Спрашивают, отчего меня не видать больше на занятиях.
Через несколько минут в аудиторию входит несколько нарядных девиц, давно уже занявших места, но прогуливавшихся по коридору в ожидании…
– Ну, предвестники «учителя» пришли, сейчас «сам» будет.
Прежде мы всегда звали Александра Ивановича «учителем», «самим» или же «Ipse»18, как ученики Сократа об нем отзывались: «Ipse dixit»19.
Действительно, через минуту, как бы с недоумением, по обыкновению озираясь и мило улыбаясь, вошла Ольга Александровна20, старшая дочь А. И., до обидности похожая на него, и затем застрял в дверях «Сам», отдавая какие-то приказания сторожу.
Поздоровались.
Я его давно не видала и, Боже, каким далеким временем пахнуло на меня при взгляде на это знакомое лицо, когда-то внушавшее столько разнообразных чувств, из которых главными были глубокое восхищение, уважение, переходящее в обожание, страх от сознания собственной ничтожности перед ним и бесконечная признательность за то, что ничем не может быть оценено и что я, наряду с многими другими, получила от него! Ум, знания, развитие, умение думать, умение чувствовать – все получила я от него или из‑за него, и как далеко21 все это было!
В 1905 году (осенью), на одном из собраний Академического союза22, в который я вступила тотчас по поступлении на курсы, Ефимовская23, советуя нам, новичкам, попросить, по примеру старших, заниматься с нами на частных квартирах с некоторыми из профессоров, между прочим сказала: «Попросите и Введенского. Он не откажет, за это я ручаюсь! Скажите только, что вы из “академического союза” и что я вас к нему направила».
Не понимая еще тогда всей неделикатности второй половины ее фразы, а также ее хитрой, двусмысленной и самодовольной улыбки при этом, мы с восторгом согласились, и вызвались идти я и Платонова (не профессора дочь, бывшая тоже в Академическом союзе, а мебельного фабриканта)24.
А. И. согласился и спросил только, чем мы хотим заниматься: Декартом и рационалистами или эмпиристами, но затем, выяснив, вероятно, из разговора с нами, со мной в особенности, т. к. я тогда еще была достаточно самоуверенна и разговаривала «ничтоже сумняшася», степень нашего умственного состояния и развития, сказал: «А то давайте лучше заниматься логикой, это вам будет полезнее».
Мы не протестовали, конечно, хотя я в душе была недовольна.
На вопрос Тани Кладо, что ответил А. И. и чем предложил заниматься, я, нимало не смущаясь, ответила:
– Сначала хотел Геродотом, а потом почему-то передумал и захотел логику. Это, конечно, очень жаль; гораздо интереснее было бы читать философов!
– Как Геродотом? – с недоумением спросила Таня.
– Ну да, философом Геродотом, – продолжала я в прежнем тоне, и Таня, должно быть побежденная моим непреклонным тоном, замолчала.
Всяк бывало!
Теперь, глядя на это постаревшее, усталое лицо и в особенности выдававшие его глаза, я вспомнила все это, и былое чувство к нему по-прежнему поднялось в душе.
Скольким я обязана ему! Все лучшее, все свои откровения, все пережитое счастье, вызванное этими умственными откровениями и вытекавшей из них новой жизнью, все это я получила от него, т. к. никакие последующие занятия не могли уже быть «откровениями», в таком смысле, для меня. И что могу я ему взамен? Ничего! Даже ничем не могу показать ему своей преданности, т. к. до сих пор я всегда настолько стеснялась его, что была сдержанна с ним до холодности и этим могла заставить думать обо мне как раз обратное.
В перерыве в аудиторию влетел долговязый Щербатской и, увидя меня, расплылся в улыбку. Его лицо вообще обладает способностью именно расплываться улыбкой, так что не моя особа причиной того, что пришлось употребить это выражение.
– Здравствуйте, – подсел он ко мне. – Как поживаете? Давно не видел вас.
– Благодарю, а вы?
– Да, вот опять привыкаю к России25. Скверно тут, скучно.
– Неужели вы, такой русский человек, могли так отвыкнуть от России, чтобы к ней надо было привыкать?
– Да что ж поделать? Скучные тут люди, сонные какие-то, неподвижные. То ли дело там! Англичане – это сама жизнь, все у них кипит, работа, мысль, самые развлечения. А уж насчет философов, так это именно только в Индию и ехать. Вот действительно, настоящая страна философии! Не этим чета! – он сделал неопределенный жест по направлению пустующего зеленого стола и публики в аудитории.
– А каков доклад? – спросил он после некоторого молчания.
– Слабый, неинтересный.
– Вот и все тут так! Прошлый раз я зашел; был доклад о Крижаниче. Ну какой Крижанич философ, скажите пожалуйста, какая у него гносеология, что могут философы сказать об нем? Так, переливали только! Историки перешли на его политические идеалы; да, собственно, только это и можно было об нем говорить, но согласитесь, что этому место не в философском обществе26. А прежде был доклад дамы какой-то, m-me Эфруси27, кажется. Я уж и не ходил. Не знаете ли, кто она такая?
– Кажется, доктор философии Гейдельбергского университета. Впрочем, там ведь доктора получить нетрудно, так что это еще ничего не говорит об ней.
– Да, но все-таки, знаете, в Бернском университете так одна дама, тоже русская, читает даже лекции. Некто госпожа Тамаркин.
– Ну, это звучит, кажется, тоже не особенно по-русски?
Щербатской рассмеялся.
– А как ваши курсы?
– Думаю скоро кончать.
– И каким образом применить свои знания на практике?
– Пока еще сама не знаю. Очень не хотелось бы учительствовать. Ненавижу это дело.
– Вполне вам сочувствую! А братец ваш как? Он ведь, кажется, еще выше меня28.
– Благодарю, рисует. Я вас не поздравила еще с вашим новым назначением.
– Каким?
– Ну как же, вы теперь все-таки академик!
– Так ведь член-корреспондент только, – сказал он как-то полупрезрительно, полу- с сожалением.
Странный он, этот Щербатской. Не разберу я его. С одной стороны, безусловно, воспитанный и симпатичный человек, а с другой – есть в нем какой-то изъян, порок, как говорят про лошадей, но в чем он – я еще не знаю. Впрочем, я ведь его почти не знаю.
И знакомство наше было таким странным.
На одном из заседаний Философского общества весной 1908 года появилась вдруг новая, нам неизвестная фигура.
«Кто такой?», «кто это?» – заволновались мы, зная уже всех «философов» не только в лицо, но и по имени-отчеству и по фамилии.
– Это Щербатской, – сказал кто-то.
– О-о, Щербатской, – воскликнула Lusignan (Эльманович)29, и голос ее выразил при этом уважение: «Так вот он какой, Щербатской!»
– Да что это такое Щербатской? – спросила я, обнаруживая, по обыкновению, свое круглое невежество во всем.
– Как, вы не знаете? – вознегодовала Lusignan. – Он ведь открыл Канта в индийской философии! – И она стала объяснять, в чем выразилось это открытие30.
Я тоже прониклась невольным уважением и с трепетом (тогда я еще трепетала) взирала на нового «философа». Он сидел наискосок от нас за зеленым столом (дело было в Зале Совета) и все время расплывался, глядя на нас.
Нас это удивляло, но невольно и наши физиономии начали отражать то же. Каково же было мое изумление, недоумение и гордость (сознаюсь! Тогда я была еще так наивна…), когда после окончания заседания Щербатской подошел ко мне, раскланялся и сказал:
– Позвольте с вами познакомиться. Я – Щербатской.
Я оторопела.
– Слушательница Высших женских курсов Евлалия Павловна Казанович, – отрапортовала я, как солдат по начальству, и протянула ему руку.
– Как вам понравился доклад? Вы занимаетесь философией? и пр. и пр. – начал Щербатской обычные в таком случае вопросы.
Я отвечала, точно ученица урок, конфузясь и путаясь и вместе не желая показать этого, старалась непринужденно держать себя, смеясь не вовремя и громче, чем это полагается.
Поговорив таким образом, мы расстались.
В следующее заседание Щербатской пришел опять и, уже как знакомый, подошел ко мне и начал разговор.
По окончании Щербатской попросил разрешения меня проводить.
Курсистки над всем этим посмеивались, А. И. тоже, а я была вполне чиста душой и ничего не понимала.
Еще в следующий раз он, прощаясь со мной возле моего подъезда (2‑я линия, д. 33), попросил разрешения прийти. Я его, разумеется, дала, и вот в один прекрасный вечер Щербатской пришел. Этот вечер был не лишен своего комизма.
Дело в том, что я жила тогда у милой старушки М. В. Небольсиной31.
Узнав, что ко мне должен прийти профессор, она заволновалась (у меня тогда не бывал ни один мужчина и только две-три курсистки, как и все первые года моей жизни в Петербурге, до переезда сюда мамы и Тото, а еще правильнее – до моего переселения к Чернякам).
– Да вы его примите, конечно, в гостиной. Неприлично, чтобы молодая девушка принимала мужчин в своей комнате. А Мина вам приготовит в столовой чай.
Я поблагодарила.
В назначенный вечер часам к 10 явился Щербатской. Мария Васильевна распустила уже шнуровки корсета (ей было тогда года 72, но она всегда носила корсет) и волосы, думая, что Щербатской не придет. Каков же был ее переполох, когда раздался звонок в дверь и в передней послышался голос: «Евлалия Павловна дома?»
– Мина, Ми-на, помоги мне одеться! – И по окончании туалета милая М. В. торжественно вплыла к нам в гостиную, поздоровалась с Щербатским, сказала ему несколько любезных слов и затем так же торжественно прошла в кабинет, помещавшийся рядом с гостиной, и села там за книгой, почти против дивана, на котором я сидела.
Когда Мина доложила, что чай подан, М. В. вышла из кабинета, пригласила нас в столовую, и торжественное шествие с М. В. впереди и Щербатским позади чинно потянулось через узкий переход в столовую. Там было такое же чинное чаепитие и чинные разговоры, после чего Щербатской откланялся и уехал.
Я видела, что он был не таким, как в Философском обществе, как будто был чем-то смущен, и мне казалось, что он совсем не того ожидал. А чего? Право, не знаю и сейчас. Вот хочу узнать, что он такое; только редко вижу его теперь.
В гостиной мы все время говорили о философии, немецкой и индийской, конечно, об открытом им Канте и пр. В столовой – о деревне – он помещик32 – и о возвышенности профессорских обязанностей. М. В. ведь либералкой была в своем кругу!
С тех пор Щербатской больше не приходил. Заседания Философского общества закончились, и я скоро уехала домой на лето.
На будущий год, когда приехала мама и Тото, я с последним отправилась на одно из заседаний. Щербатской был там. Я познакомила его с Тото и звала приходить опять. Он обещал, но не приходил. Затем еще позже он убеждал меня заняться санскритским языком, чтобы изучить потом индийскую философию, предлагая свои услуги. Я сказала, что философию оставила, т. к. не чувствую в себе никаких способностей к отвлеченному мышлению, и занимаюсь литературой. Он посмотрел на меня как бы с сожалением:
– Надеюсь, хоть не русской, по крайней мере?
– Именно русской, – рассмеялась я.
– Неужели она может быть интересна! – с искренним изумлением отозвался Щербатской.
Вскоре он уехал в Индию и пробыл там больше года, кажется. Вчера я с ним виделась в первый раз по приезде.
24/XI. [Вчера утром, только встала и немытая, нечесаная села за письменный стол использовать свою свежую голову, – звонок.
«Пожалуйте к телефону».]33
– Плохо.
Пауза. Неловко по телефону выражать сожаление.
– Так я вас буду ждать. приезжайте, как только можно будет.
– Приеду. До скорого свидания.34 его немножко и еще подразню при случае. Впрочем, ему тогда действительно не до меня было.
А как мы с ним интересно познакомились. Но об этом как-нибудь в другой раз, сейчас надо кончать работу…
Вчера зашла без меня Маша Островская35 и прочла мое «творение», как она выразилась, и на клочках бумаги написала свою резолюцию и отдельные замечания.36
25/XI. Хорошо написана книжка Ковалевской «Нигилистка»37. Обнаруживает большой литературный талант и, что для меня особенно приятно, – действительно большой, настоящий ум. Есть, конечно, погрешности, но их, думаю, можно объяснить неопытностью автора в этого рода творчестве. Читала ее, вернувшись от Пругавина38, так что заснула только после 3‑х часов.
Вообще, я плохо себя веду за последнее время. Ложусь очень поздно и встаю, конечно, поздно. Пока чувствую себя великолепно, но знаю, что, едва кончу свою теперешнюю работу, наступит реакция: тоска, меланхолия, общее отупление… брр!..
Было у Пругавина довольно скучно, или, может быть, я сама была уставши сильно, только разговор шел вялый и неинтересный.
Придя, я застала Островскую39 и племянницу Пругавина, курсистку-математичку40. Говорили обо всем понемногу и ни о чем в общем.
Часов в 10 пришел толстовец Трегубов (кажется), а еще позже – некто Левицкая41, социал-демократка, знаю, потому что она пришла к Пругавину прямо из школы для рабочих. Трегубов волновался немного из‑за предстоящего в Москве процесса трезвенников42 и, конечно, защищал их, говоря, что ничего подобного нет.
– Вас хотят в эксперты на суд просить, – добавил он, обращаясь к Пругавину.
– Ну какой же я эксперт, да, – отозвался тот, – я не поеду!
Я спросила Александра Степановича, действительно ли у хлыстов бывают радения, описанные Печерским и Мережковским43, он с негодованием отвергает это, говоря, что «повальный грех» – это безусловная ложь, но что кружения, по всей вероятности, бывают, хотя сам он их и не видал, и в некоторых наиболее рьяных сектах хлыстов после религиозного экстаза, может быть, и наступает эротическое настроение, но что это во всяком случае отдельные случаи и обобщать их никак нельзя.
На мое замечание, что мне кажется психологически возможным (и даже, пожалуй, естественным, добавляю сейчас) при таком страшном напряжении нервной системы, при некультурности большей части хлыстов, при тесном взаимном соприкосновении двух полов и при их взглядах на брак – подобный переход, – Пругавин ничего не ответил.
Я ничего уж не сказала о том, что считаю возможным и так называемый повальный грех. Трегубов (?) все время молчал, и я не могла узнать, что он такое, хотя его большой лоб на большой голове, длинная борода с проседью (?), нежный цвет кожи и какие-то детские черты лица говорили, что это мечтатель, утопист и человек честный и хороший. Но, несмотря на его высокий лоб, не думаю, чтобы он способен был inventer la poudre44.
Я была у Пругавина третий раз вчера, но интересно мне было только 1‑й раз, когда там был Данилов («человек без шапки»)45. А политических разговоров этих – собственно, политических не в смысле состояния политики в настоящее время, а бесконечные перебирания всех эмигрирующих и нелегальных деятелей и всей их деятельности прошедшего и настоящего времени, – я не переношу. Может быть, это и узко, и нечестно, и обнаруживает атрофию гражданских чувств во мне (в этом последнем, впрочем, сильно позволяю себе усомниться), – пусть, но это так. И меня, как и Толстого (да простится мне такое сопоставление!), можно упрекнуть в том (как это и делал Д. Н. Овсянико-Куликовский по отношению к Толстому, не ко мне, конечно), что для меня существует только барин – я расширю этот термин до понятия «умственного аристократа» – и мужик; мещанина же и рабочего (фабричного, конечно), словом, все, что можно назвать третьим сословием (может быть, исторически и неправильно применяю термин сейчас), – я буквально не перевариваю. Конечно, я могу им сочувствовать, желать им всяких благ, сама даже более реально могу отозваться на помощь, – но интереса они для меня никогда не представят никакого, и я с неизмеримо большим удовольствием, большей любовью и непреклонностью отношусь к мужику, чем к фабричному. С первым у меня будет духовная связь, а со вторым – ровно никакой. И потому я существом своим не могу сочувствовать так называемому революционному движению, хотя умом понимаю его необходимость и во многих случаях – благодетельность. – Сердце мое не с вами!
Зашел разговор о Данилове.
А. С. немножко над ним подтрунивает, собственно, над его «религией знания», но признает также, что он интересный человек. А я так очень хочу еще раз увидеть Данилова и, если выйдет случай, позову его к себе. Меня он точно интересует.
Между прочим, А. С. на вопрос, как он живет, рассказал следующее:
– Живет он прелюбопытно. Я даже раз съездил к нему нарочно посмотреть его обстановку (sic! Маша [Островская] называет его, Пругавина, чудесным человеком; согласна, но это «раз съездил посмотреть его обстановку…» (!)). Забрался он куда-то в самый угол Малой Охты (или Большой, не помню), да. Вхожу к нему, да. Комната – какой-то сарайчик: стол, стул, да, и книги. А спит он! Просто два ящика, да, и между ними доски; на них какое-то невозможно рваное одеяло. И это все. Под головами – тючок какой-то, а то и просто книжка, как он говорит, да. Впрочем, недавно ему подарил кто-то старое одеяло, и он мне его с гордостью вытащил показать. Питается отбросами, да. Когда я пришел к нему, у него что-то варилось на керосинке и издавало такой ужасный запах, что противно было нюхать, не то что подумать съесть, да. Оказывается, это щавель и крапива, нет, щавелю даже не было, только крапива; и больше ничего, да. Маленький горшочек, на несколько дней, как он говорил. Предложил мне попробовать, да… – улыбнулся Пругавин.
– А хлеб он ест? – спросила Маша.
– Да, кажется, и еще молоко пьет. Горячую воду с солью, как вы видели, и хлеб. Вот еще молоко. И то это уж какие-то знакомые его сжалились над ним и заставили его молоко пить, да. Это они, кажется, и одеяло ему подарили. Видно, все-таки есть люди, расположенные к нему. Недаром он хвалился, что у него друзья есть.
– Почему же им не быть? Ведь он, кажется, очень хороший человек, и во всяком случае редкий, – заметила я.
– Хороший-то он хороший, только с ним трудно, да. Колючий он.
А. С. говорит обыкновенно тихим, спокойным голосом, с маленькими остановками, и часто улыбается. Улыбка у него хорошая, и человек он, верно, хороший, только все же эгоист. Из добрых хороших эгоистов. И талантов особых за ним нет, несмотря на его многочисленные писания. Рассказывает хорошо: живо довольно, занимательно, иногда с маленьким добродушным юмором, но ум у него тоже, по-моему, небольшой.
Вот интересно бы мне с кем встретиться, это с Хилковым. Это, верно, интересный человек и, думаю, хорошая душа. Данилов как-то отзывался об нем как о человеке с мятежной, вечно ищущей душой, а Пругавин немножко подсмеивается над его исканиями и думает, что это показывает неглубокого человека. Я думаю, что скорее прав Данилов, а Пругавин этого не может понять. Вообще, Данилов, по-моему, чуткий человек и умеет понимать людей. А его религия знания – это одно из его чудачеств и, по-моему, искреннее.
Может быть, и есть у него немного рисовки и mania grandiosa46, как говорит Маша, но в большинстве своем он искренний чудак, мне кажется. Положим, я могу ошибаться, т. к. видела его всего один раз.
– А, вот хорошая барышня! – сказал он, когда я вошла в комнату и, здороваясь, назвала себя.
– Почему хорошая? – спросил Пругавин улыбаясь.
– Высокая. Я высоких люблю.
Когда я назвала свою фамилию, он переспросил, а затем повторил ее про себя.
Не могу сейчас воспроизвести всего, что он говорил, т. к. я была страшно уставши (вообще, я ужасно устаю к вечеру и теряю всякую способность мыслить и воспринимать, в особенности если я в это время нахожусь в обществе) и потому хотя слушала с интересом, но на следующее же утро все забыла. Помню, что говорил о своей религии знания, о сионистах, у которых он, кажется, недавно был; о якутах, наконец, о заграничной эмиграции.
Помню имя Гоца, которого Данилов называет Карлом XII, говоря, что как тот руководил со своих носилок боем одним мановением руки, так же точно руководит и Гоц русской революцией47. А относительно того, как Хилков стал из религиозного сектанта анархистом, Данилов рассказал следующее. Случилось у Хилкова какое-то несчастье в жизни, не помню только какое. Вот он и поехал за границу рассеять немного свое горе. Попал в Швейцарию, ну и в нашу эмиграцию, конечно. «А там “бабушка”, – вел Данилов свой рассказ («бабушкой» эмигранты называли народную социалистку старуху [Брешко-]Брешковскую). – У “бабушки” “внучки”, птенчики все желторотые, из России наехавшие. Так все и ютятся вокруг нее. Ну у “бабушки” там хозяйство свое – дом, а хозяйничают свои же; и так это хорошо, по-семейному: – Катенька, не хочешь ли курочки ножку или крылышко? – Верочка, выпей кофе чашечку. – Муся, съешь шоколаду. – А в соседней комнате портрет “полковника”48 висит, и в него упражняются в стрельбе из игрушечного пистолета с резиновой (пробкой) пулей. И все этак ласково, любовно, по-матерински. А за курочкой идет прокламация, за шоколадом – бомба, и вся эта земская молодежь с головой в омут за “бабушку” и за бабушкино “дело”, конечно. Вот и попал Хилков к этой “бабушке” и размяк душой. Все людей искал, любви между людьми, духовной связи, и нашел. Тут уж до бомб и анархизма – один шаг. А душа у него у самого чуткая, нежная, любящая, и я вполне понимаю, как мог в нем произойти подобный переворот», – закончил Данилов.