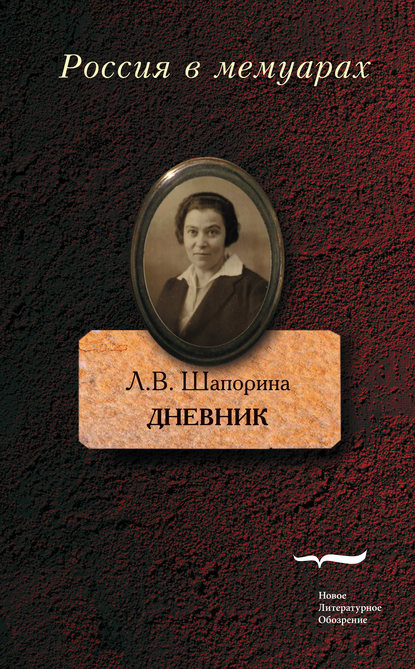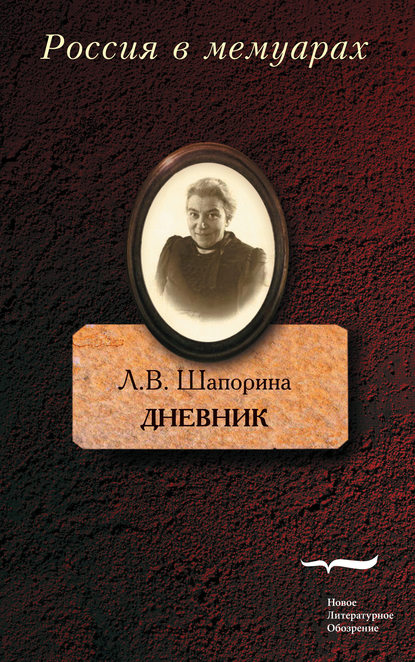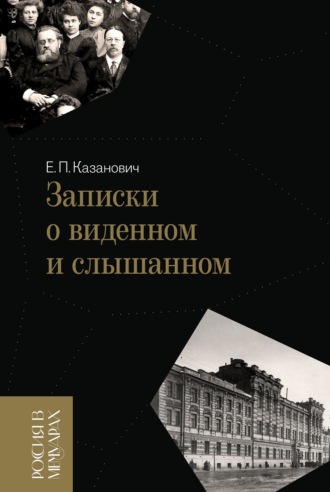
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
Также висят у него в кабинете плакаты: «Книг из библиотеки не просить», – между тем как сам он привозил не раз курсисткам редкие книги, рукописи и давал их на дом, даже едва зная в лицо тех, кому давал. И некоторых вчерашних гостей своих он, наверное, видел только в первый раз, т. к., несмотря на приглашение одним семинаристкам, приехали и несеминаристки.
Демонстрирование своих рукописей И. А. большей частью сопровождал рассказом о том, как они к нему попали. Например, деревянного «Иисуса сидящего» И. А. просто-напросто выкрал с чердака монастыря во время всенощной, в чем ему помогал чуть ли не отец-казначей или хранитель ризницы, что-то в таком роде. А так как статую проносить надо было мимо молящейся публики и всей монастырской братии, то ее и закрыли, «вы понимаете, на случай, если бы нас окликнули. Дурно, мол, сделалось человеку, и все тут. Ну да, слава Богу, все сошло благополучно».
Некоторые археологические вещи, вроде старого оружия, бердышей, пищалей, домашней утвари и даже некоторых крестов, продал ему за бесценок какой-то сторож, который, прельстившись примером ученых копателей, вздумал сделаться археологом и самостоятельно заняться раскопкой курганов, спросил у И. А. советов и указаний на этот счет и таким образом добыл эти вещи, проданные потом Шляпкину.
Надеждинскую, кажется, коллекцию И. А. купил на аукционе, причем благодаря тому, что он дал взятку в 300 р. судебному приставу или кому там следует, – аукцион был веден жульническим образом, и за бесценок И. А. приобрел много ценного и редкого. Были, между прочим, такие эпизоды. Покупает он письменный стол, а пристав и говорит: «К столу полагаются две подушки», – и велит положить очень редкие диванные подушки итальянской работы XVI или XVII века с папским гербом, шитым золотом. Или по распродаже крупных вещей пристав объявляет: «Аукцион окончен. Все оставшиеся мелочи положить с вещами г-на Шляпкина, их нечего считать», – и пр. в таком роде.
И. А. хотя как будто и возмущался, с одной стороны, но с другой – несомненно гордился своим умением пользоваться случаем и, по всей вероятности, признавал втайне вместе с иезуитами, что цель оправдывает средства и ради науки все возможно47.
Когда уж нечего было больше смотреть и показывать, И. А. вытащил свой альбомчик с автографами и предложил просмотреть и его48. За него взялась было Батенина, но я поспешила предложить свои услуги для чтения вслух его содержимого, и альбом был в моих руках. Так спасла я отчасти свою честь.
Дело в том, что в первое посещение И. А. я нежданно-негаданно для себя должна была тоже «руку приложить». Каково мне это было – может понять только тот, у кого большое самолюбие, кто желает быть умным человеком, а на самом деле считает себя круглым идиотом, кто еще больше чувствует свое идиотство в присутствии высочайше утвержденных умов, т. е. гг. профессоров, получивших патент на ум; кого одно слово «профессор», «ученый» способно повергать в прах и трепет, а присутствие их – приводить к полной атрофии и того ума, которым наделила его при рождении природа или Господь Бог. Такова была я тогда, да еще в n-й степени. (Немножко сохранилось это и сейчас, но только немножко и при особых обстоятельствах.) Я написала что-то очень возвышенное, т. к., во-первых, всегда имела49 склонность к возвышенным чувствам, а во-вторых, присутствие мое в таком храме великого, каким мне казался шляпкинский дом, поневоле настроило струны моей души на самый что ни на есть возвышенный лад. Руки мои дрожали, сердце замирало, а душа уходила в пятки, когда я всеми 10‑ю буквами выводила свою фамилию, т. к. мне казалось невежливым и неприличным поставить только инициалы. А хотелось этого ужасно! Или лучше совсем ничего не писать. Я так и слышала за собой голос И. А.: «Вот дурища-то, прости Господи», – после того как мы уехали и он взял посмотреть альбом50.
Теперь все это вспомнилось мне очень живо, и я очень не хотела, чтобы кто-нибудь из присутствовавших курсисток набрел на мою надпись (перед равными всегда стыднее, чем перед высшими и низшими). Но недолго длилось мое спокойствие. Видя, что я с трудом разбираю почерки, И. А. предложил читать сам и взял у меня альбом… Все было кончено. Сердце куда-то провалилось. Я сидела как на иголках. «Ну сейчас, сейчас прочтет. Нарочно выищет… Из любезности… Подумает сделать мне приятное…» – думала я, поспешно вставая и становясь за ним, чтобы при первой попытке И. А. назвать меня – как-нибудь помешать. Но не знаю, догадался ли он о моей тревоге, случайно ли это вышло – только И. А. мудрое изречение мое прочел, а фамилию не назвал и виду не подал, что оно ко мне относится. Верно, понял все-таки, почему я поспешила взять у Батениной альбом и что караулила теперь у него за спиной.
В альбоме было несколько стихотворений Голенищева-Кутузова, автографы Григоровича, Потехина, Вейнберга и пр. … Три последние были с И. А. членами театрального цензурного комитета, заведовавшего выбором пьес для Александринского театра51, и, воспользовавшись подходящим случаем, И. А. рассказал несколько эпизодов из их совместной деятельности, изображая их в лицах и стараясь по возможности передать индивидуальность каждого.
– Мы собирались обыкновенно по субботам, – говорил И. А., сложив на животике руки и озирая нас всех, как это он привык делать на лекциях, – знаете, в той маленькой комнатке, возле фойе Александринского театра. Читал всегда Вейнберг вслух. Он читал, знаете, очень недурно и умел передразнивать всех артистов, так что если какая-нибудь сцена из читаемых подходила к кому-нибудь из них, он старался прочесть ее так, как ее исполнял бы передразниваемый им артист. При этом дурачился, конечно, утрировал немного, но характер схватывал удивительно верно. У них, верно, это уж семейная жилка была, знаете ли; ведь брат его и был актером52. Мы, бывало, покатывались со смеху, как он изображал Мичурину: в самом трагическом месте: «Ах! мне дурно…» – и первое время не знаешь даже, написано это в роли или Петр Исаевич вошел в роль Мичуриной. Это ее прием был.
– Но что меня всегда поражало в этих почтенных литераторах и чего я никак не мог понять – это их ненависть друг к другу; буквально ненависть, прямо зверское озлобление какое-то. Ведь все же все это были люди выдающиеся, живущие преимущественно духовной жизнью, – и такие мелкие, земные чувства. Кто их знает: зависть ли тут играла роль, желание провалить друг друга, подставить ножку, – не знаю; просто, мне думается, печень у них испорчена у всех: стары ведь уж были, немудрено! Как сейчас помню такой случай. Устраивал как-то Вейнберг у себя пирог и пригласил, конечно, как водится, всех нас к себе. И вот, вообразите, такая сцена. Григорович потянул носом, поднял голову и заиграл пальцами, протягивая: «Не знаю, может быть, и буду…» (И. А. постарался передать нам интонацию и выговор Григоровича). – «Это мы еще посмотрим!..» – в свою очередь прошамкал и Потехин. Ну, затем Вейнберг обратился ко мне: «Илья Александрович, надеюсь на вас». – Я, конечно: «Покорно благодарю, постараюсь быть». – После этого спускаемся мы с лестницы. Впереди я с Вейнбергом, сзади Потехин с Григоровичем. Вейнберг не видал их, да как прошипит мне вполголоса и с этакой, знаете, злобой, что даже жутко стало: «Хоть бы скорей околевал этот старый пес», – понимаете, это про Потехина, что-то в таком роде! Ужасно не по себе мне стало. А тут Потехин, шедший как раз позади нас, вдруг поскользнулся и упал (или оступился только, не помню уж. – Е. К.). Что ж бы вы думали? Вейнберг моментально оборачивается назад, подскакивает к нему и спрашивает как ни в чем не бывало, да таким лисьим, знаете ли, голосом: «Надеюсь, вы не ушиблись, ничего себе не повредили!» Ну, вы понимаете, как должны были действовать на меня подобные сцены! – Насколько верно понял их И. А. – судить не берусь, но что несмотря на все свое доброе сердце он невольно мог смотреть несвободными от легкого пристрастия глазами на своих разномышленников, – это, мне кажется, вещь вполне возможная (тем более что Вейнберг – еврей); ведь говорил же и писал Н. А. Котляревский о Вейнберге как об удивительно гуманном человеке, умевшем все и вся примирять и всюду вносить согласие и тишину, а отзыв Шляпкина совсем не согласуется с этим53. Впрочем, и Нестор Александрович слишком прекраснодушен, чтобы ему особенно доверять; кроме того, говорилось это на своего рода поминках, а тут уж – aut bene, aut nihil54…
Так делился с нами И. А. своими театральными воспоминаниями.
– И Чехов прошел через наши руки. Помню, «Чайку» я отстоял55, – закончил И. А. повествование.
Тут нас попросили уйти с балкона, т. к. пора было накрывать на стол. Был уже шестой час.
Незадолго перед тем приехал А. Ремизов, некто Имшенецкая56, оставленная при Шахматове бывшая вольнослушательница университета, оставленный при Шляпкине бывший студент57 и некто Сергеев или Сергеенко, хранитель библиотеки Александро-Невской лавры, кажется, человек очень «полезный», как шепнул нам конфиденциально Шляпкин, очень знающий, но необычайно скромный и застенчивый58.
Позже. Странно, как приходится иногда как-то совершенно невольно обманывать людей. Я хотела взять из академической библиотеки книгу Шляпкина «Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени», а она оказалась давно уже взятой Пиксановым. Библиотекарша посоветовала мне обратиться за ней непосредственно к нему самому, для ускорения дела, и, узнав, что сегодня Пиксанов будет на курсах, я отправилась туда. Без особенного удовольствия, т. к. я его недолюбливала почему-то. Но сегодня Пиксанов немного примирил меня с собой своей любезностью и готовностью идти навстречу. Он сейчас же согласился отдать мне книгу, для чего предложил пойти с ним домой за ней59. А ведь он вряд ли знал даже мою фамилию, хотя лицо, может быть, и помнил.
Мы вышли вместе. По дороге, естественное дело, Николай Кириакович спросил, для чего нужна мне эта книга: для экзамена или для какой-нибудь работы. Очень не люблю я подобных вопросов!.. Ну, пришлось говорить, что не для экзамена, а так себе, просто самой интересно прочесть ее, т. к. я сдавала Шляпкину отдел по древнему театру, а этой книги не успела тогда прочесть.
– Вы что ж, интересуетесь театром? – спросил Пиксанов.
– Немного, – неохотно ответила я.
– И именно петровским?
– Нет, скорее новым, начиная с Грибоедова, а старым – так, для общего знакомства.
– Ага! Ну вот как это хорошо, значит, наши с вами интересы сходятся; я тоже как раз этим интересуюсь. Что ж, вы уже выяснили себе какую-нибудь определенную задачу, наметили себе какой-нибудь один вопрос или накопляете пока общие сведения?
– Да. Я пока еще не имею возможность ни над чем работать, пока не окончу курсов, а после – может быть.
– Так. Так пожалуйста, если я смогу чем-нибудь быть полезным вам, когда вы приступите к работе, – обратитесь ко мне во всякое время. Я этим давно уже занимаюсь и потому, может быть, помогу вам кой-какими сведениями; очень буду рад помочь вам. Я мечтаю о том, чтобы привлечь к разработке истории театра коллективный труд; эта область у нас так мало исследована, что одному никак не управиться. Я даже хочу на будущий год объявить в своем семинарии курс истории театра60. Но вам, конечно, семинарская работа не может представить никакого интереса и пользы, вы, вероятно, уже можете работать вполне самостоятельно, так что я могу вам предложить только свои товарищеские советы, и это помимо курсов, приходите ко мне прямо на дом.
Я очень поблагодарила Пиксанова. И вот тут и вышло то, о чем я говорила вначале. Ведь я не знаю, думала ли я когда-нибудь серьезно над научной работой о театре, а здесь вышло так, что я именно о ней и говорила. Так Пиксанов меня и понял, не знаю только, по моей ли уж вине или просто так. Может быть, я голосом и всем своим видом говорила больше, чем словами, и он, зная, что я давно на курсах, что я когда-то что-то читала о Гоголе вместе с ним самим и Сиповским на нашем Гоголевском вечере61, мог вывести заключение о моих занятиях наукой. Положим, я заявила, что сейчас ничем не занимаюсь, но ни своего интереса к науке, ни занятий в прошлом, ни возможных в будущем я не отрицала.
А это все оттого, что в тот момент, когда я говорю, я вдохновляюсь прошлым и оно как бы становится для меня настоящим… Так и выходит, что я невольно внушаю людям мысль о своей научной работе, которой, в сущности, нет.
Вечером. Не шекспировским ли «Усмирением строптивой» навеяны эти сварливые жены комедий Сумарокова*? Источник как будто бы тот62.
А стремление русских дам к французам и французскому, так же как и выражения вроде: «Да еще за такой дамой, которая адорабль и которая тот один имеет порок, что в Париже не была» (Дюлиж в комедии «Пустая ссора», явл. XIII), – Фонвизин, верно, ближайшим образом взял у Сумарокова, т. к. дама из его «Бригадира», увлекающаяся по-французски воспитанным дураком Иваном, и сам этот Иван – точные сколки с сумароковских французящихся дам и их амантов. Очевидно, в «Бригадире» Фонвизин еще сильно почерпал у Сумарокова.
11/V. Комедия «Рогоносец по воображенью» тоже отдает Шекспиром. Во-первых, эти разговоры о рогах и боязнь их почувствовать на своем лбу. Во-вторых, – это, положим, не в одной этой пьесе, – параллельное развитие действия между слугами, являющегося повторением того, что происходит между господами, только с примесью комического, буффонского элемента. В-третьих, в комедии «Мать, совместница дочери» есть даже попытка играть словами (например, словом «рог»).
12/V. Продолжу о поездке в Белоостров.
Весь мой интерес направился, конечно, к фигуре Ремизова, т. к. мне довольно знать о ком-нибудь, что он писатель, хотя бы даже и не из особенно вкусных, чтобы он сразу привлек мой интерес, но это до тех пор, конечно, пока я не узнаю, что это такое, стоит ли интереса или нет. О Ремизове же я не имела еще никакого своего мнения; читать его не приходилось; слышала только, что он что-то чудит. Поэтому я уставилась на него с большим любопытством.
Я еще никого не встречала, кто бы так подходил по внешнему облику к типу Квазимодо, как Ремизов. Он несомненный урод, но что-то есть в этом уроде притягивающее к себе; чувствуется во всей его фигуре какая-то сосредоточенность в себе, какой-то свой мирок, в который нет доступа постороннему; чувствуется, что он и сам совсем особенный, отличный от всех людей. Точно он питается не теми же ростками, как и мы, не из общей всем нам почвы. В нем есть сходство с Сиповским в лице, но последний со своей пошлой физиономией и деланой мефистофельской складкой кажется прямо уродом рядом с Квазимодо-Ремизовым, несомненно заключающим в себе какое-то внутреннее благородство. В нем нет ни тени вычурности, ничего похожего на рисовку; наоборот – масса простоты и, может быть, даже застенчивости или просто отчужденности. К сожалению, заговорить с ним было никак невозможно, т. к. сначала он ушел с И. А. в моленную и о чем-то долго совещался с ним там по секрету, а потом все время держался особняком и упорно молчал. Да я и сама стеснялась, откровенно говоря, спросить его о чем-нибудь: при этой обстановке и таком положении дел это могло бы показаться неделикатной назойливостью интервьюера или любопытствующей девицы. Достаточно того, что я смотрела на него во все глаза и по возможности наблюдала за ним.
Во время обеда Ремизов сидел за столом на балконе, куда я идти побоялась из‑за своей простуды; забрался, говорят, в самый угол и так же все время молчал.
Едва нас позвали к столу, как И. А. опять захлопотал.
Вообще, он проявляет необычайные способности там, где надо что-нибудь устраивать, распоряжаться, вообще проявлять активность своей натуры, и тут он очень деятелен и подвижен (хотя и несколько суетлив по-бабски), невзирая на свой багаж, как И. А. называет свою фигуру.
Вышло так, что все мужчины – их было человек десять – ушли на балкон, а в столовой остались одни курсистки. И. А. сейчас же заметил такой непорядок и привел нам их человек пять оттуда. Сам он тоже обедал в столовой.
Незадолго до обеда И. А. скинул свою красную рубаху и очутился в европейском костюме, как он сам сказал, т. е. крахмальной сорочке и синем пиджаке, одетом на нем под рубахой. Для чего нужен был этот маскарад – неизвестно; просто хотелось человеку почудачить, переодевание к обеду было другое чудачество, по поводу которого он не преминул тут же произнести какое-то стихотворение об английских причудах русских, после чего И. А. добавил: «Этим стихотворением я сам себя высек».
Ну и за обедом И. А. прочудачил в третий раз: он заставил нас встать и прочел молитву предобеденную, а после обеда – вторую, что повторил и за другим, «музыкантским» столом на балконе. Читал он при этом именно «как пономарь», так что вряд ли его чтение сопровождало какое-нибудь благоговейное чувство63.
Встав из‑за стола, мы начали прощаться, так как было уж довольно поздно, но некоторых из нас И. А. задержал, прося еще немного подождать и шепнув при этом: «Не пожалеете, уж я вам говорю». Я была в их числе и, разумеется, осталась без всякой попытки к протесту (протестовать).
А дело заключалось в том, что, когда нас осталось человек 15 вместе со студентами, И. А. вынес нам несколько экземпляров своей статьи о Толстом и брошюрки ученика его Громова «о научной деятельности И. А. Шляпкина» с приложением его портрета64 – и со всей возможной торжественностью вручил нам их на память. Любит человек торжественность, что и говорить; но выходит и это у него крайне безобидно, точно дитя потешится…
Разойдясь в удовольствии дарить, И. А. вытащил еще несколько своих брошюрок («Четыре возраста человеческой жизни», «О Ерше Ершовиче»65 и еще что-то), но так как их было всего штук 6–7 и на всю братию не хватало, то И. А. решил доложить недостающее количество несколькими дублетами из своей библиотеки и затем все это разыграть в лотерею. Две-три интересные книги возбудили наш азарт, и лотерея прошла очень весело, при ближайшем, конечно, участии неутомимого хозяина. Я по своему обычному невезению в лотерее и картах вытащила пятый номер, по которому мне причиталась диссертация лингвиста Щербы66, а для оживления ее сухой науки И. А. добавил вышедший к 19 февраля юбилейного 1911 года жиденький сборник плохих стихов, посвященных этому событию67.
Так закончился проведенный в Белоострове день, и мы, от души поблагодарив ласкового хозяина за радушный прием и расписавшись в новом уже альбомчике, – тронулись в путь.
Ремизов, который просил И. А. указать ему литературу о Китоврасе, начертал что-то глаголицей, чего я уж никак разобрать не могла68.
В 10 часов мы были на вокзале, а в начале 12-го – дома.
Вечером. В комедии «Вздорщица» Сумароковым выведен дурак, делающий попытки говорить умные и мудрые речи, на манер шекспировских шутов. Вообще, я думаю, что Шекспир был знаком Сумарокову. Или, может быть, эти шекспировские элементы перешли к нему из вторых рук, через французов?
А сама вздорщица Бурда не есть ли копия Катарины из «Усмирения строптивой»?
13/V. Троица. Что такое эти голоса весны? Я не знаю их, а между тем они врываются незваные, непрошеные в мои уши, наполняют их шумом и звоном, оглушают.
Сейчас слишком душно, чтобы сидеть с запертыми окнами, а через открытые окна голоса эти главным образом и врываются. С одной стороны – рояль с упоительным вальсом или «Прелюдией» Шопэна; с другой – «Уймитесь, волнения страсти…»69 низким, грудным контральто; с третьей – скрипка, любимая, недосягаемая; с четвертой – далекий-далекий, легкий, как шелест мотылька или едва слышное пение цветочных эльфов, звук мандолины с балалайкой, – и все это раздается так настойчиво, так призывно, так радуется чему-то, что поневоле начинаешь поддаваться и сам ощущаешь какое-то неясное томление, стремишься духом куда-то, в какую-то прекрасную, неведомую страну, где растет «голубой цветок»70…
Когда человек одинок, он много слышит и видит того, чего не замечают люди счастливые, окруженные шумной толпой близких.
Не услышать им, например, как рядом с ними за окном грустно напевает, склонив над иголкой белокурую головку, молодая девушка, очевидно, швея. Мне видна ее светлая фигура, ее бледное лицо, большие серые глаза, тонкие пальчики, протягивающие длинную нитку сквозь какую-то легкую светлую материю. Заходящее солнце золотит ее пепельные локоны, и я слышу ее тоскующий голос, поющий про себя и для себя. Мне понятна ее скорбь. Она тоже одна… Может быть, в эту минуту она думает о ком-нибудь далеком, кто согрел когда-то ее сердце двумя-тремя ласковыми словами и с тех пор и думать об ней забыл. Может быть, это был какой-нибудь добрый студент, увидавший ее, как и я теперь, из своего окошка и отнесшийся сочувственно к ее одинокому неблагодарному труду, радующему на мгновение только сердце пустой избалованной кокетки. Может быть, он дружески заговорил с ней, принес ей хорошую книжку для развлечения, успокоил ее своей верой в лучшее будущее, может быть, сводил даже ее два раза в театр, – и она помнит его слова, его добрые глаза, звук его задушевного голоса, который сам просится в сердце… Теперь заливается тоской это сердце, застилаются туманом непрошеной слезы эти серые очи, а голос звенит все глубже, все больше слышится в нем скрытого чувства и неизъяснимой тоски: «Но что ж досталось мне в сих радостных местах – могила!..»71
Бедная девушка! Верно, всю душу свою вложила ты в этого человека; верно, каждый вздох твой, каждая мысль, каждое слово говорят тебе об нем; верно, образ его всюду преследует тебя, как наяву, так и во сне. Ночью ты видишь его опять таким же ласковым, любящим, как когда-то давно. Может быть, еще ласковее, еще любовнее говорит он с тобой, гладит твою руку, любуется твоим милым, зардевшимся смущением личиком; может быть, прижимает тебя даже к сердцу, и от этого сладко замирает твое бедное сердчишко или трепетно бьется, как испуганная птичка…
А наяву – тот же холод одиночества, те же непрошеные, манящие звуки весны, чужого счастья и радости…
Бедная девушка! От души желаю, чтобы твои грустные глаза опять зажглись огоньком счастья, чтобы голос твой перестал звучать так скорбно, так одиноко.
А ты пожелай мне… чего? Ах, многого!.. хотя бы…72 чихнуть сейчас, так как у меня отчаянно щекочет в носу, а я никак не могу чихнуть…
Как раз напротив моего окна прилежно уткнулся в книгу какой-то юнец. Его, очевидно, ничто не смущает; окно его раскрыто настежь, но наружные шумы не достигают его ушей: они плотно прикрыты ладонями, и он ни разу не поднял головы от книги, ни разу не выглянул в окно. Только когда какой-то гнусавый нищий фальшиво затянул благодаря недосмотру дворника нечто вроде «псальма» или «кантычки»73, он медленно встал, прехладнокровно закрыл окно и опять продолжил чтение. Ни один мускул не шевелится в нем, лицо ни на минуту не изменяет спокойного выражения. Даже досадно, а втройне – завидно. Впрочем, может быть, за стеной живут его родные: мать, сестра, братья; тогда его прилежание понятно, т. к. его молчание и одиночество не вынужденные и он в любую минуту может прервать их, войдя к ним и перекинувшись двумя-тремя словами, после чего вовсе не так плохо посидеть одному и позаниматься. А может быть, это просто студент, сдающий последний государственный экзамен, за которым перед ним раскрывается широкая дверь свободы и жизни; и он спокоен, т. к. знает, что его от него не уйдет.
Во всяком случае – счастливец!..
18/V. Вчера пошла к Пругавину.
Там сидели уже Маша [Островская] и Левицкая; получилось: почтенный, седой Александр Степанович, окруженный тремя (включая меня) не старыми еще девицами. Неизвестно, кто кого занимал: мы ли хозяина или хозяин нас, и чувствовалась не то чтобы неловкость, а что-то смешное в этом положении, т. к. мы вовсе не были близкими знакомыми Ал. Ст. (Маша больше всех нас может считать себя таковой).
Попозже, к нашему (или моему, чтобы не говорить в данном случае за других) облегчению пришел Трегубов.
Симпатичное, но удивительно комичное впечатление он производит (опять-таки на меня): маленького роста с огромным лбом, очками, длиннейшей бородой, он имеет вместе с тем совершенно детское лицо; нежный цвет лица, вздернутый носик, выпавший (один или два) зуб впереди (как у детей, когда молочные выпадут, а настоящие еще не успели вырасти), черная куртка с глухой застежкой сбоку, как у гимназистов, и какая-то особенная чистота и наивность во всей его наружности и разговорах.
Мне всегда казалось странным, как может взрослый человек исповедовать толстовство и главным образом – его непротивленство; я думала, что это возможно только для пылкого юноши да еще для самого Толстого, как создателя известной идеи, зрелые же люди могут к нему относиться с большим уважением и симпатией, брать даже отдельные мысли из него, но сделаться полным и последовательным толстовцем – это ребяческая игра, вроде описанного Гнедичем Пчелиного Кута в «Ноше мира сего»74. Вот Трегубов и есть такой ребенок (хотя, по словам Ал. Ст., он и перестал быть настоящим толстовцем), чистый душой, верующий, но наивный ребенок; он вполне олицетворил собой заповедь: «будьте как дети»…