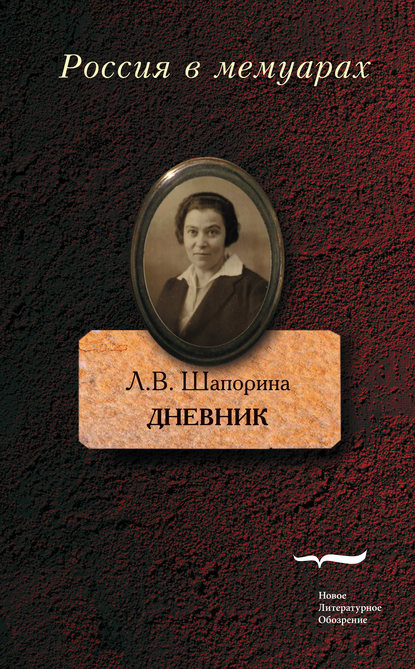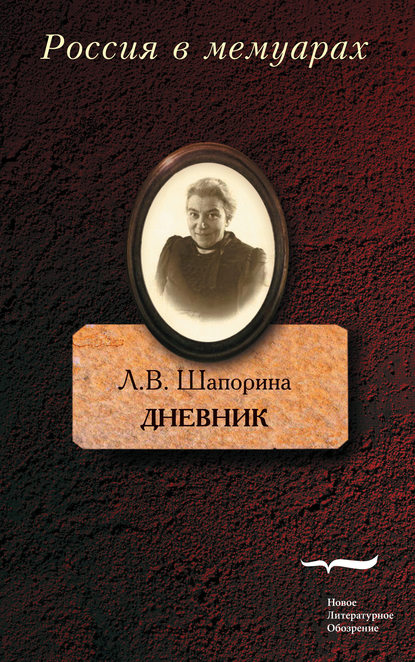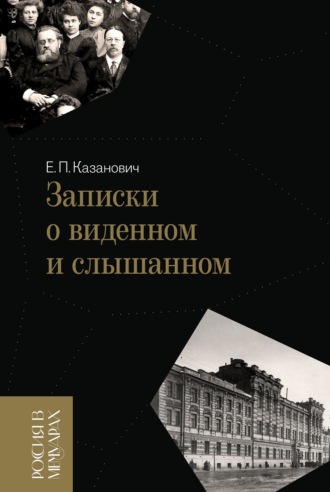
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
Но вот будет штука! Только что «милая мама» – m-me Черняк – спрашивала меня, хорошо ли в колонии, и закончила тем: «Не поселиться ли и нам с Лидочкой там? В самом деле, съездить разве посмотреть?..»
Этого только недоставало! Из-за них я главным образом так и возненавидела человечество, они-то мне и осточертели больше всего на свете, а она спрашивает: «Не поселиться ли там и нам?..» Фу, пропасть! Этак все мое существование будет сразу отравлено.
Нет, хорошо все-таки, что я поехала сегодня в колонию. Одного только не дошла в своей программе – не дошла до той дачи, до тех хозяев, у которых два года назад жили Небольсины99. Тот конец спокойнее, да и от парка Зиновьевского100 ближе.
Впрочем, это и то первый раз в жизни, что у меня все удалось как по писаному.
– Это мы прямо как на земле нашли эти пять рублей, – ломаным русским языком, постоянно переходя на немецкий, говорила толстая сияющая Mutter. – Wie of der fert [?] gefunden! Wir dachten gar nicht dieser Zimmer abzugeben. Уж мы фам все прислуживать будем, sie werden zufrieden bleiben!101
И старушка, кажется, довольна: напоила молоком, хотела даже чаем угостить, но я отказалась.
Только бы она мне не мешала!
Впрочем, не думаю: она говорила как-то, что не может подыматься по лестнице, ну а все остальное, значит, в моих руках.
5/VI. Какая скука сумароковские эклоги! Все одни и те же Флоризы и Даметы, Делии и Аминты, Амаранты и Ерасты и пр.102 Ни одной индивидуальной черты в них. Как и оды его – все по одному штампу.
А и Флориза «вырезывала в лесных корах: Дамет!» – как у Шекспира в «Как вам это понравится» свою «Розалинду»103.
Бесталанный был человек Сумароков! Умный, но совсем обиженный на воображенье; творческая фантазия в нем почти отсутствует. Вот только еще пчела поразнообразила немного любовь Дафны к Ерасту (если только это не заимствовано откуда-нибудь), да еще кой-где мотивы ревности («Галатея» и пр.), но и в них страшное однообразие.
А страсть и изображение любовного жара нарастают по мере писания эклог; от невинного изображения любви Сумароков переходит к все более подходящему под современный нам вкус: «Юния», «Туллия», «Мелита» и пр.
Идиллии, по-моему, лучше. В них иногда чувствуется любовная лирика, а не одни только рифмованные строфы (только не VII).
Смешная попытка подделаться под народную песню в песне VIII («В роще девки гуляли…»). Большинство его песен точно из теперешних песенников, по которым распевают провинциальные горничные. А в песне XIX размер русский. Ничего еще песня XXVII. Хорош размер в XXX и XXXII песнях. Сносна песнь XXIV, в ней несколько чувствуется народный дух.
Интересно место в песне CLVIII – «Хор к превратному свету»:
«Учатся за морем и девки;За морем того не болтают:Девушке де разума не нада,Надобно ей личико да юбка,Надобны румяны да белилы…» и пр.6/VI. Милый Данилов вспомнил меня: прислал свою статью из «Живой старины» об ирере среди якутов, о чем мы с ним говорили в последний его приход ко мне104.
Интересный он человек, и не без способностей был бы, да жаль, что слишком русская натура! Если он справедливо называет Ал. Ст. [Пругавина] «интеллигентом», то его с не меньшей справедливостью можно назвать «дилетантом» в кавычках.
Надо написать ему несколько слов в Курсавку105.
14/VI. У Mutter двое детей: толстый Peter, лет 14, и толстая Kattla, 15 лет. Оба краснощекие добродушные создания. Petia, как его зовут дома, совсем еще ребенок: шалит, играет и плачет как маленький, во весь голос; нет никаких дурных замашек, как у наших деревенских детей, нет ничего испорченного.
Когда я приехала, отец звал его идти на пристань за моими вещами, Петя заупрямился и не пошел; но едва отец отвернулся, он сделал веселое, улыбающееся лицо, повел меня в мою комнату, предупредительно снес туда мой сак-вояж [так!], поставил стол, стул и прибавил, что все остальное сейчас будет.
Этим была установлена дружба между нами.
Петя учится в школе; ему осталось пробыть в ней еще две зимы. Катя в этом году школу кончила. Там кроме Закона Божьего, немецкого и русского языков она прошла географию, арифметику, историю, чуть ли не начала алгебры и геометрии. Умеет, конечно, вязать и в свободное от домашней работы время садится на скамеечку с крючком и клубочком и вывязывает себе какое-то кружевцо.
Работать ей приходится много, т. к. у бедной Mutter больные ноги: постоянные нарывы на пятках, которые то прорывают, то опять нарывают, и, кроме того, ноги всегда опухшие, как бревна, от колен до пальцев. Ходит Mutter на цыпочках и вприпрыжку, но целый день толчется, бегает взад и вперед, в лавку, за молоком, стряпает Любовь Александровне (старушка, у которой я обедаю) и мне, ставит самовар, стирает белье и дома своим еще успевает настряпать. И никогда ни звука жалобы. Когда ей уж очень невмоготу, она присаживается в кухне на ящик и на глазах ее показываются слезы.
Очень ее жалко!
Vater – глуп, эпилептик и немного попивает, но в общем существо доброе и безобидное. Лентяй непроходимый. Есть у него три взрослых сына от первого брака. Один из них женат и живет отдельно, а другие два живут с ними.
В колонии Шторцы (фамилия их) считаются людьми бедными.
Проходя по улице колонии, на каждой почти лавочке, поставленной в заборе перед палисадником, можно видеть одного или двух стариков, дедов или прадедов, мирно греющихся на солнце. Они ничего уж не работают и отдыхают на старости после трудовой жизни. Одеты они опрятно, всегда в черную пару, и часто тщательно выбриты.
Старые женщины сидят на улице реже, хотя есть две-три, которых я постоянно вижу.
Все работающие мужчины ходят в будни без пиджаков, с длинными холщовыми фартуками впереди, вроде тех, какие носят наши сапожники, только чисто вымытыми и помеченными двумя большими инициалами на груди. Метки эти вышиты красными крестиками, иногда очень замысловатым узором, иногда целым словом «Vater», но ни на одном я не видала фартука без метки или грязного. Теперь началась уже жара, поэтому мужчины нарядились в пестрые соломенные шляпы с большими полями, как негры на плантациях.
Немцы народ все очень вежливый: когда идешь по троттуару [так!], женщины сторонятся, давая дорогу, а мужчины совсем сходят с троттуара, хотя бы места было достаточно, чтобы разойтись не толкаясь. Но ругаться и пить научились.
18/VI. Для чего, собственно, я выдумала себе это одиночное заключение – я и сама не знаю!
Правда, большого выбора между местами для поселения у меня и не было, однако все же я могла устроиться иначе, хоть на той же Песочной, где меня так радушно звали Петрашкевичи. По крайней мере, я не была бы одна, как в пустыне оброненный караваном дукат…
Когда я кончаю заниматься, мне положительно не с кем словом перекинуться, и я сама собой обречена на молчание, т. к. с Mutter я уже переговорила обо всем, что меня интересовало в их быте, а остальные немцы чуждаются нас и говорят неохотно. Мы для них – пришлый элемент, и все их отношения к нам сводятся на эксплуатацию, больше ни для чего мы им не нужны; ко многому в нас они относятся отрицательно или – в лучшем случае – со скептической улыбкой.
Поговорила бы я охотно со стариками. Интересно мне выяснить, как они относятся к душе своей, к близкой смерти и жизни на том свете и т. п., но они держат себя так, что к ним не подойдешь.
Да, правду сказать, не всегда и хочется вести такие разговоры.
Среди дачников – ни одного интеллигентного лица.
Итак, я целые дни одна, до того одна со своими мыслями, со своей персоной, что опять уже опротивела сама себе до чертиков.
Для чего я выдумала это одиночество?.. – Писать хотела! – Но что писать, для чего писать, кому нужно это писание?! Да и, наконец, что-нибудь более или менее живое выходит у меня только тогда, когда за стеной я чувствую жизнь, в которую каждую минуту могу погрузиться сама, почерпнуть сил из ее неиссякающего фонтана.
Я не могу долго быть одна на одну с собой; я начинаю тогда хандрить и прихожу к taedium vitae благодаря постоянному созерцанию прелестей собственного ничтожества. Я теряю всякую способность работать, я теряю интерес ко всему и с каждым днем и часом все больше и больше отравляю себя ядом самоанализа, саморазрушения. То я думаю, что меня никто на свете не любит и я никому не нужна (да так оно, конечно, и есть, кроме мамы, которая в счет в данном случае не идет); то я думаю, что я совершенно бесполезный человек, то – что я полная бездарность и ничтожество, то… – и без конца «то», в результате чего – тоска, как змея, сосущая сердце. Я дохожу до того, что, не видя долго человеческого лица, теряю, наконец, всякое желание видеть кого бы то ни было, и если придет ко мне в это время кто-нибудь, даже тот, кому еще три дня назад я была бы несказанно рада, – я им тягочусь, мне не хочется говорить, его присутствие утомляет меня.
И самой ехать никуда не хочется. Только бы лежать все да лежать без движения или сидеть, не шевелясь, не сводя глаз с одной точки. Лучше всего – спать. Все признаки депрессии.
Пора бы мне это знать уж хоть на будущее время.
21/VI. Подъезжая сегодня к Летнему саду, я в третий раз уж с тех пор, как езжу с дачи и на дачу, увидала только дымок и корму отходящего от пристани шлиссельбургского парохода106.
Делать нечего! Опять пришлось два часа мерзнуть на пристани (т. к. холода весь июнь такие, что я буквально мерзну, я, которая живет зимой в комнате, имеющей в среднем 7° температуры и не знающей выше 8°), ожидая следующего.
Принялась с горя за «Часы» Ремизова107 (скучная штука!) и когда их окончила, к своему удовольствию, увидела подходящего к пристани А. С. Пругавина.
Я этому очень удивилась и потому именно, что все время была почему-то уверена, что увижу его в этот приезд в Петербург непременно, только я ожидала, что буду ехать с ним вместе в город.
Конечно, я сейчас же пошла к нему навстречу.
Ну, поздоровался А. С. приветливо по обыкновению. Поговорили немного о дачах; А. С. все не мог надивиться тому, как я живу, говорил, что совсем по-робинзоновски…
23/VI. и когда я пригласила его как-нибудь по дороге заехать ко мне от парохода до парохода, он ответил, что боится моей робинзоновской обстановки, а лучше бы я к нему приехала. Понятно, я не настаивала, поблагодарив за приглашение.
В это время открыли кассу, и мы пошли брать билеты, он – первого, я – второго класса. Узнав, что мы не вместе, А. С. пожалел, что не спросил раньше, какой билет я беру, и сел пока со мной.
Но на дворе было холодно, второй класс кают не имеет, и я замерзла на сквознике [так!], А. С., вероятно, тоже, хотя и не признавался в этом.
Посидев немного, А. С. пошел в каюту, распорядился насчет чая и позвал меня греться чаем, от чего мне как-то неловко было отказаться, и я пошла, взяв дополнительный билет. Я всегда чувствовала себя немного неловко, когда оставалась с ним с глазу на глаз. А. С. держит себя просто и непринужденно, когда вокруг него собирается несколько человек, но вдвоем, как это бывало, когда он оставался со мной, по крайней мере, он тоже стесняется, и выходит, что нам не о чем говорить, что наши интересы и понятия лежат в совершенно разных плоскостях, что чувствуется старик и молодой, или, вернее – молодая, т. к. мне кажется, что А. С. женщин именно и стесняется. А может быть, я и ошибаюсь; может быть, если к нему придет простая, серьезная девушка, каких сколько угодно попадаются среди курсисток, он найдет с ней о чем говорить и они поймут друг друга, я же никогда не умела и не умею быть простой, в особенности с некоторыми.
Как бы там ни было, но я пошла и теперь вовсе не раскаиваюсь в этом. За эти ½–¾ часа я больше поняла и оценила чрезвычайно симпатичную личность Пругавина.
Глубоко порядочный, честный, добрый, серьезный, отзывчивый и скромный – он казался мне раньше только маленьким, добрым человечком, отжившим идеалистом-мечтателем давно отжившего времени. Теперь я должна сказать, что если черты последнего в нем и присутствуют – маленьким, которое в данном случае скорее имеет смысл мелкого, его ни в коем случае назвать нельзя; наоборот, это скорее большая, глубокая, но в высшей степени скромная, не вылезающая напоказ душа. А. С., безусловно, не принадлежит к числу крутых умов, но тот, который у него есть, работает хорошо и добросовестно; зато душа у него крупная. И в трусости я его напрасно, может быть, заподозрила.
Однако я боюсь из одной крайности, по присущему мне свойству противоположностей, впасть в другую, поэтому ограничусь простым и кратким пересказом нашей встречи, воздерживаясь от дифирамбов.
На мое замечание, что Чайковский показался мне интересной личностью, А. С. живо ответил, что он прекрасный человек, и прибавил при этом, что ожидает его к себе на днях. Затем А. С. еще раз повторил, что на Данилова напрасно клевещут, что не может человек, «одной ногой стоящий уже в могиле», изменить делу всей (своей) жизни; очень резко отозвался о духовенстве за его новые притеснения Чурикова: «Сами из него мученика делают!»108; рассказал о своих сношениях с американскими сектантами, переселившимися туда из Киевской губернии109; заметил вскользь о том, что ему скоро, вероятно, удастся завязать сношения с новыми сектантами, живущими очень замкнуто и отчужденно в Шлиссельбурге и избегающими всяких посторонних людей, и пр. и пр., и наконец разговор как-то, уж не помню как, перешел на меня, на мои планы будущего.
Когда я чувствую себя с человеком не свободно, когда я его стесняюсь, потому что думаю, что ему со мной скучно, – я большей частью стараюсь не молчать (даже не то что стараюсь, а это выходит помимо меня, почти бессознательно) и говорю все, что в голову приходит, лишь бы не давать воцаряться неловкому и тягостному в таких случаях молчанию. Если разговор заходит обо мне – я всегда почти говорю массу лишнего, часто чего вовсе не думаю, часто того, о чем обыкновенно старательно молчу и не хочу, чтобы это кому-нибудь было известно, тем более человеку совершенно постороннему. Со стороны мои подобные речи, может быть, производят впечатление несерьезности, пустоты и хвастовства, но видит Бог, что его у меня в такие минуты меньше, чем когда бы то ни было. Я только точно в пропасть лечу, сорвавшись с шаткого камня, и все мое летит вместе со мной.
Помню, когда-то Настенька Эльманович рассказывала мне о себе совершенно то же, прибавляя, что иногда в таких случаях она даже врет, сплетая не только о себе, но и о других, о ком заходит речь, всевозможные небылицы, и при этом людям самым почтенным, которых она уважает от души и перед которыми меньше всего хочет показаться дурой и лгуньей.
Это признанье ее было для меня большим спасеньем, т. к. благодаря ему я перестала казниться и бичевать себя, что делала прежде после каждого такого разговора, доходя положительно до отчаяния от приписывания себе всевозможных, самых низких пороков, вроде низкого хвастовства, хлестаковщины, чуть ли не сознательного обмана других, и самого худшего из всего на свете для меня – глупости… Настин рассказ заставил меня понять, что не в дурных наклонностях тут дело, а в известной болезненной особенности психики, с которой я стала бороться, достигнув все-таки некоторого самообладания.
Последний раз она прорвалась в разговоре с Пиксановым, о котором я уже упоминала, да вот теперь. Я начала говорить о своем стремлении к писательству, о начатых мною вещах (именно о «кладбищах»110), о тех типах курсисток, которых наблюдала на курсах и хотела бы воплотить в художественные образы, о своей юношеской драме и, наконец, о заветной мечте – написать драму.
Что думал в это время обо мне А. С. – я, конечно, не знаю, только он живо ухватился за мои последние слова и сказал, что имеет много сюжетов и материалов для драмы, что сам не однажды брался за разработку их, но у него дело не ладилось, и потому он охотно предоставит их в мое распоряжение, когда я примусь за работу. Я поблагодарила и ответила, по обыкновению, что до окончания Курсов не позволяю себе браться за то, к чему стремлюсь всей душой, что иначе Курсов ни за что не кончу, рассказала тут же о своих терзаниях из‑за того, что должна заглушать пока в себе это стремление, о мучительности сомнения в себе, в своих силах и способностях, – словом, много такого, о чем я очень не люблю говорить и говорю только в случаях, подобных этому, когда плохо владею собой…
В результате было то, что А. С. настоятельно звал меня приехать к нему, даже с ночевкой, и взял слово, что я соберусь. Но все-таки несмотря на это я думаю, что скромному и осторожному А. С. не могли не показаться немного странными и нескромными мои признания, тем более что я с ним, в сущности, очень мало знакома, несмотря на посещение его четвергов эту зиму.
Между прочим, А. С. спросил меня, какие газеты я читаю, и после моего ответа, что теперь – никаких, а зимой брала у хозяев «Новое время» и, если бывали случаи, просматривала «Речь», как-то странно посмотрел на меня. Для него ведь вся жизнь в общественности!
Одному только я рада: что на этот раз немного лучше узнала А. С. и почувствовала к нему настоящую симпатию, душевную, а не на словах только.
24/VI. Какая бездна таланта потрачена Брюсовым на его «повесть XVI века» – «Огненный ангел»111! С одной стороны, как бы прекрасное произведение, и испытываешь полное наслаждение, читая его; с другой – как будто жаль, что такой талант направился на воскрешение мертвого, а не создание нового живого.
Впрочем, это вообще характерная черта таланта Брюсова, слишком экзотического для современности, так что, вероятно, другого он создавать и не может. Современность чересчур груба для него: в ней много плоти и крови, а ему нужен только аромат и воздушная речь.
А талантливая вещь! И сколько добросовестного труда в нее вложено. Эпоха изучена необычайно, эпический тон повествования выдержан изумительно, самый язык – точный, определенный, сжатый – как нельзя лучше отвечает духу воскрешаемого времени и характеру повествования. Большой ум, тонкое художественное понимание и громадное чувство меры во всем отличают это произведение Брюсова, как и некоторые из его стихотворений. (NB. Слава Богу, тут и в изображении эротических чувств соблюдена мера; не пахнет порнографией.) Характер Ренаты и самого повествователя намечен и обрисован прекрасно, а сцена посещения Рупрехтом Агриппы Неттесгеймского, их свидание – лучшее из всей книги. Очень хорошо намечен доктор Фауст, граф фон Велен, граф Генрих, словно все лица, все образы живут и отличаются друг от друга собственными индивидуальными чертами, делающими их образы вполне реальными.
А с каким мастерством вводит он элемент чудесного и таинственного, всю эту чертовщину и чернокнижие, оставляя читателя все время под вопросом, где волшебство, а где действительность и где автор порицает черную магию, а где сам в нее верит.
Немного менее удачен суд над Ренатой и ее смерть, но серьезного упрека и тут автору поставить нельзя.
Да, бездна таланта, остроумия (глубокого, внутреннего, а не того, что выражается в остроумных словах и фразах) и художественного вкуса!
«Огненным ангелом» Брюсов вытеснил из моей души Мережковского, царившего там превыше всех современников за свою трилогию112, и показал себя гораздо тоньше и умнее как художник.
А только все-таки в его натуре есть патологические элементы, а в психике – известные дефекты; это – его дань времени; как и у Сологуба и многих других.
Вот про Мережковского этого сказать нельзя: он натура чувственная, это правда, но здоровая, как и Куприн, а Арцыбашев, пожалуй, тоже несколько страдает извращенностью.
25/VI. С. Г. Петрашкевич сказал как-то в разговоре о Ремизове, с которым был вместе в ссылке в Вологде113, что человек узнает свой стиль (только не каждый, конечно) и затем уж сознательно действует в этом стиле, подгоняя по возможности все поступки под него.
Отчасти это верно, но отчасти бывает и то, что человек, увидя, какое впечатление он произвел на других, действует уже в этом направлении. С одними – он показывает себя сухим эгоистом, с другими – доброй душой, с третьими – явлением необыкновенным, с четвертыми – полным жизни и радости энтузиастом, с пятыми – разочарованным меланхоликом, и т. п. Я, по крайней мере, действую так, и, главное, часто совершенно помимо моей воли (вначале хоть): само как-то так выходит, и я действительно разный человек с разными людьми, в большинстве случаев совершенно искренно. Очевидно, это происходит оттого, что по случайному настроению моему при первой встрече люди составляют уже обо мне известное суждение, с которым впоследствии и подходят ко мне и на которое я отвечаю тем же. Если же человек слабее меня, то, узнав, за что он меня принимает, я просто играю роль, дурака валяю.
Отчасти это было вчера и с доброй душой С. П. Петрашкевич, перед которой я показывала себя человеком немного необыкновенным, много пережившим и перевидевшим. Я говорила без умолку и рассказывала многое, о чем можно бы и помолчать было.
Видно, и впрямь «давно не говорила», как она объяснила мое замечание о том, что я чересчур уж разболталась.
После обеда. Хорошие произведения имеют ту особенность, что чем больше проходит времени после знакомства с ними и чем больше вспоминаешь их, тем больше они нравятся и тем больше открываешь в них достоинств.
Так, «Огненный ангел» с каждым днем приобретает мои новые симпатии, и я охотно прочла бы еще что-нибудь в таком роде, а за «Пруд» Ремизова114 как-то не хочется и браться!
26/VI. Должно быть, все Буличи народ не талантливый. Автор «Сумарокова»115, как и наш Сергей Константинович, куда как скучен! В особенности после того, как я прочла несколько старомодную, но все же интересную и даже довольно талантливую книжку Стоюнина о Сумарокове116. К сожалению, не помню, кто из них первый по времени: если Булич, то заслуги за ним должно признать, т. к. тогда надо полагать, что Стоюнин очень многое у него заимствовал и самостоятельного исследования не дал, но изложил гораздо талантливее.
А Ремизова и «Пруд» скука! Начала его сегодня читать.
И что это за род литературы, не могу понять. Неужели такие лоскутки могут кого-нибудь удовлетворять? Художники уже отстали от лохматой, растрепанной живописи, пора бы и писателям.
Хотя и говорится, что истинный художник творит для себя, но этими словами вовсе не отрицается, что он должен и для себя хорошо обдумывать и еще лучше выполнять; тут же ничего подобного не чувствуется.
А считают его талантливым, и есть даже у него поклонники – Гусаков, например, сильно защищал его у меня. Не понимаю!
Ну, может, дальше и попадется что-нибудь лучшее, а пока – скука.
Жаль. Ремизов понравился мне у Шляпкина, и я надеялась на большее у него.
Позже. Перед отъездом на дачу мечтала о том, что примусь здесь за драму. Нет! С драмой еще нужно погодить: два месяца слишком незначительный срок, за это время только-только обдумать можно, а написать?!..
Приходится ждать окончания Курсов, тогда буду наконец свободна! Тогда исполню две мечты: куплю Шекспира, венгеровского, и засяду за драму.
В добрый бы час!
28/VI. Как все-таки во «Всякой всячине»117 чувствуется рука и душа женщины, умной, светской, гуманной, привыкшей милостиво царствовать! Если во время Булича еще не был известен настоящий автор и направитель ее, – по ее общему тону он мог бы угадать его, тем более что он уже дошел до предположения, что она возникла в небольшом кругу светских, может быть, и придворных людей.
Особая, женская печать лежит на «Всякой всячине», и эта черта важна и любопытна. Женская душа отмечает не то, что мужская, обращает внимание на другие черты и стороны жизни, по-другому подходит к вещам, поэтому участие женщины с этой стороны не только важно, но необходимо как в литературе, так и в науке. Благодаря особенностям своей психической организации она может обратить внимание на новую сторону мира и по-новому осветить ее.
Со временем женщина непременно дорастет до этого.
29/VI. Однажды Данилов передал нам рассказ одного из сектантов, кажется, бывшего у Легкопытова или еще кого-то из хлыстов, уж не упомню, о впечатлении, вынесенном им из их беседы:
– Говорил он, говорил, понимаете, целых полчаса прошло, и что дальше, то все громче, так что у меня звон в ушах пошел и я уж слова понимать перестал. Через полчаса спрашивает: «Понял?» – «Ничего, говорю, не понял». – «Ну, значит, мало!» – Еще полчаса прошло. – «Теперь понял?» – спрашивает опять. – «Да как будто что-то начинаю понимать», – отвечаю. – «Ладно, говорит, слушай еще». – И что ж вы думаете, что дальше он говорил, то больше я его понимал, и слов как будто и не мог повторить потом, а нутром все понял.
То же, по всей вероятности, происходит и при чтении романов Ремизова: в «Часах» я еще ничего не понимала; в «Пруде» начала уже смутно докапываться до какой-то души автора, до его внутреннего мира, и тоже не через слова и образы, а нутром; в третьем произведении, если я его прочту, я, надо надеяться, буду уже вполне понимать то, что понимает Ремизов и о чем он нам говорит, благо во мне есть религиозное ощущение, по словам Данилова, ставящего его как conditio sine qua non118 для понимания Легкопытова и tutti quanti119…