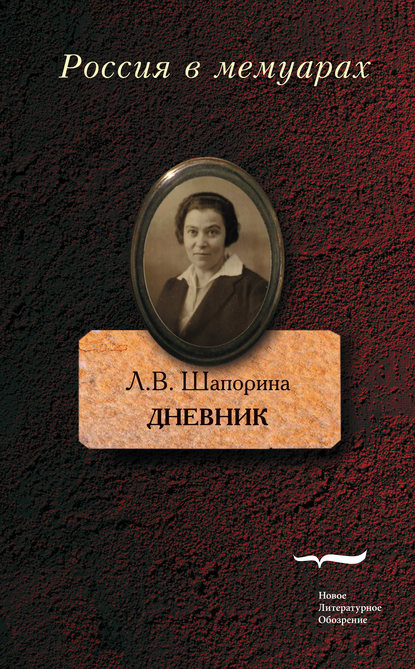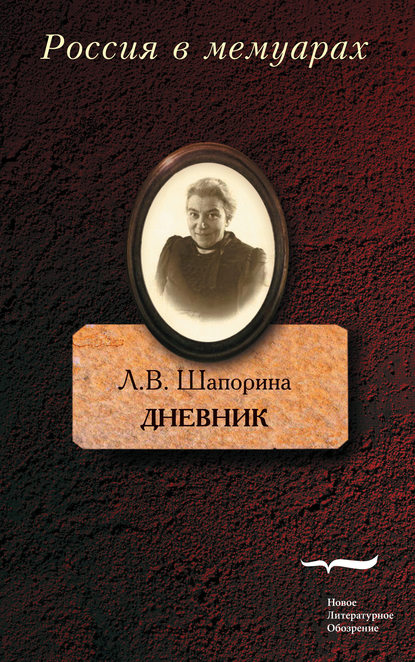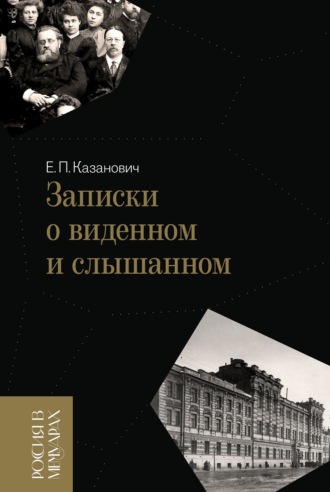
Полная версия
Записки о виденном и слышанном
Худая, усталая, потная и красная, она и сегодня выдавала кашу, кисель, молоко.
– Скажите, пожалуйста, чтобы хлеба еще дали, – обратился к ней кто-то из курсисток.
– Хлеб режут, и пока не нарежут, он подан быть не может! – резко отзывается та, в изнеможении опуская руки, пока две толстые девки стаскивают с подъемной машины новый котел с молоком и огромный медный поднос с киселем. – Только что подали две корзины, а вы их опять раскрошили и разбросали по всей столовой. Я два года воюю с вами за то, чтобы не портили хлеба, а ничего не могу добиться. Есть можно сколько угодно, но зачем же портить!
– Тарелок нет! – послышался сзади новый голос.
– Скажите, чтоб подали вилки. Товарищ, вилок нету…
– Ни одной чистой ложки! – кричат со всех сторон.
– Сами виноваты, – по-прежнему громко и резко отвечает пожилая слушательница, поправляя прилипшие ко лбу полуседые пряди волос. – Вас просят сносить на стол грязную посуду, когда вы кончаете есть. Прислуга не успевает мыть, да еще убирать за всеми вами.
– Мы-то тут при чем? Мы еще только что пришли.
– А мы еще меньше при чем: у нас не хватает глаз и рук на всех вас. Следите сами друг за другом, а претензий нам никаких вы не имеете права заявлять. Вы должны быть благодарны тем из ваших товарищей, которые взяли на себя труд кормить вас и все связанные с ним хлопоты, а никак не с претензиями к ним обращаться.
Конечно, она была права: не так легко, в самом деле, простоять в этой жаре и сутолоке с часу до пяти! И, кажется, дежурные не пользуются за это никакими привилегиями, кроме получения обеда вне очереди, так, по крайней мере, говорила сегодня эта пожилая дама.
Впрочем, кто их знает! Говорю не относительно данного именно случая; но ведь у нас сплошь да рядом бывают разные тайные вещи, о которых большинству неведомо и которые узнаешь как-нибудь случайно.
Я нахожу, что было бы вполне справедливо и заслуженно пользоваться дежурящим в столовой и кухне даровыми обедами, и делать это вполне открыто, а не исподтишка, прикрываясь фразами о бескорыстном служении другим. Служение этим все равно не уничтожилось бы, так как труд их во всяком случае дороже курсового обеда, и уважение наше всегда оставалось бы с ними26.
30/IV. Еще этого недоставало! А между тем это так: голова наша – если не больше всего, то во всяком случае очень сильно – зависит от желудка.
Вчера у меня сделался сильнейший жар (простудилась, верно, провожая маму) и такая головная боль, какой я уже давно не испытывала, и я все время чувствовала какую-то связь между ней и желудком, точно невидимые нити были протянуты от одного к другому. Это было такое же реальное физическое ощущение, как ощущение боли в ушибленном месте или любое мускульное ощущение.
Я не буду распространяться дальше на эту тему, но пусть когда-нибудь кто-нибудь понаблюдает за собой во время головной боли (конечно, это относится не ко всякой; зависимый от желудка – совсем особый род головной боли, похожей на мигрень), это очень любопытно.
Вообще, прислушиваясь иногда к внутренним процессам организма, – а на меня иногда находит желание это делать, – можно иногда заметить и прямо ощутить, опять-таки совершенно физически, такие явления, которые в обычное время нами не замечаются, и даже трудно бывает предположить, чтобы они вообще были доступны самонаблюдению.
Сейчас была у меня Батенина. Она приходила передать приглашение от Шляпкина в Белоостров на 9 мая.
Вот это тоже необычайно симпатичная человеческая черта в Шляпкине и показывает его хорошее отношение к нам. Ну кому другому придет охота звать курсисток к себе, кормить их, возиться с ними, показывать им то интересное, что у него есть! Ведь не одному Шляпкину делают подношения, не у него одного есть друзья среди курсисток, – каждый профессор имеет свой кружок преданных сердец, – а только он один так реагирует на это.
Большое, наверное, удовольствие доставит нам поездка к нему27.
В сумароковской трагедии «Артистона» совершенно шекспировский мотив: во-первых, повеление Федимы умертвить Артистону; во-вторых, признание Гикарна в том, что он ее на самом деле не умертвил, и появление Артистоны в нужный момент28.
1/V. Вовсе не такая это скучная вещь составление карточного каталога, как я думала. Я с удовольствием копаюсь во всех этих старых книгах, расставляю их по шкапам, прочитываю автографы, вводящие иной раз в интимную жизнь отношений различных авторов к Плетневу. Кроме такого интереса работа эта полезна тем, что сразу и довольно широко ознакомляет с литературой, с книжным рынком разных эпох, во внешнем же отношении Нестор Александрович обставил работу мою так удобно, что я не могу ничего лучшего и желать для себя29.
Вот только много недоумений возникает у меня, и как решить их – не знаю: Нестор Александрович говорил одно, а Модзалевский30, к которому он просил обращаться во всех сомнительных случаях, говорит совсем другое.
Мне самой остается только поступать по-третьему, что я и намерена делать.
Распространено мнение, и как-то Шляпкин подтвердил его на одной из своих лекций, что Сумароков, подобно другим нашим начальным драматургам, дал в своих произведениях только сколок с французских ложноклассических трагедий, не внеся в них ничего своего, национального.
Шляпкин говорил, что все обрусение французской трагедии Сумароковым состояло в том, что 1) брался сюжет якобы из русской истории, 2) французские имена переделывались на русские (однако и чисто русские иногда не то чтобы французились, но как-то неимоверно коверкались, вроде: Синав, Владисан, Хорев31 и пр.), 3) восхвалялась слава русского оружия и 4) давался отклик на модный в то время либерализм, питаемый опять-таки французскими вольнодумными идеями Вольтера и Дидерота.
Конечно, все это правда, но мне кажется, что у Сумарокова все же больше, чем у всех наших последующих ложноклассиков, насколько я их помню, чувствуется русский дух, пробивается русское понимание автора. Его стих не так звучен и блестящ, как озеровский32, но зато он и не так трескуч, зато страсти у него не так бурны и пылки не по-северному, зато злодейства не так изощрены и дьявольски чудовищны. Много простоты, несмотря на всю непростоту формы, простоты внутренней, русской. Мелодрама есть, конечно, и у Сумарокова в виде патетических возгласов, занесения над собой кинжала и пр., но это – отдание должной дани своим образцам (источникам), и то опять-таки больше внешнее: внутренней мелодрамы у Сумарокова, я бы сказала, нет.
Больше всего русский дух чувствуется в его женщинах. Правда, они говорят и делают то же, что француженки у Корнеля или Расина, но говорят и делают это по-своему, по-русски. Конечно, ни одна киевская или новгородская княжна времен Олега, Синава, Ярополка не может ни думать, ни говорить так, как у Сумарокова, но если бы почему-нибудь она должна была изображать собой подобных героинь, она, наверное, была бы очень близка к тем, какие у Сумарокова, так что, несомненно, некоторые типические черты русской натуры Сумароков, по-моему, схватил и отразил. Главным образом – простота, спокойствие, безыскусственная любовь, верность и спокойное достоинство, то, что обыкновенно признается присущим русской женщине.
Так что Димиза, Зенида, Избрана33 – вневременные и внепространственные, но все же русские женщины.
3/V. Ну да, я и ожидала: Короленко пишет, что «к сожалению, “Отживающая старина” для “Русского богатства” не подходит», а если я хочу поговорить о причинах ненапечатания, то чтобы пожаловала в ближайшую пятницу, т. е. завтра, в редакцию, что я, конечно, и сделаю34.
4/V. В редакцию я объявилась в 2 ч. 10 м., т. е. на 20 м. раньше назначенного часа. Короленки еще не было, но не успела я раздеться, сесть на предложенный мне стул и раскрыть книгу, как он пришел.
Короленко узнал меня сейчас же, поздоровался очень приветливо, назвав по имени-отчеству (хотя фамилию и забыл), и пригласил за собой в кабинет.
Там он сказал:
– Видите ли, ваша вещь написана недурно, но она обнаруживает большое незнание того, о чем вы говорите. Вы, по всей вероятности, были на Светлом озере впервые и совершенно неподготовленные к тому, что вам пришлось там услышать, так что в вашей передаче встречаются грубые ошибки. Вероятно, вы плохо разбирались в том, что там говорилось, кто какого толка, секты. Здесь, например, вы говорите то-то и то-то, – Владимир Галактионович начал перелистывать мою рукопись страницу за страницей и объяснять все свои пометки на ней, – а между тем это не верно… и пр.
Так перебрал Короленко все мои ошибки, вплоть до простых стилистических неуклюжестей. Видно было, что рукопись он прочел внимательно и хотел помочь, чем мог. Мне казалось, что хотя «Отживающая старина» и была им забракована, но по ней Короленко составил себе не совсем плохое мнение об авторе. Значит, о предмете, который я буду знать, я смогу написать так, что моя вещь забракована уже не будет. Это меня сильно утешило. Может быть, и теперь, если бы я обратилась не к Короленко, прекрасно знакомому с этим вопросом, а в другую редакцию, меня бы и напечатали, но я не очень жалею о случившемся, т. к. отзыв Короленко, в общем, ободрил меня, хотя и не знаю, насколько основательно.
Указывая мои недостатки в передаче, Короленко попутно рассказывал о своих поездках на Светлый Яр, о том, что ему там приходилось видеть и слышать. Между прочим, он вспомнил и Зинаиду Гиппиус, говоря, что ее рассказ еще поверхностнее моего, «хотя она и упрекала меня в незнании, – добродушно усмехнулся Владимир Галактионович, – да и можно ли узнать народ, приехавши к нему с урядником!» – добавил Короленко35.
Относительно замеченного мной презрительного отношения старообрядцев к женщинам Владимир Галактионович объяснил, что среди поповческих сект такое отношение существовало испокон веков, беспоповцы же и посейчас относятся к ним с уважением.
Когда я поднялась уходить и благодарила за указания, Короленко крепко и несколько раз пожал мне руку, говоря, что я должна еще туда съездить, да не на день только, а пробыть с ними несколько дней, пожить в их деревне: «Тогда вы узнаете их как следует и напишете уже совсем хорошо»36.
А потрудилась я все-таки над этой рукописью немало. Я раз пять переписывала ее.
При мне пришла в редакцию еще какая-то курсисточка, очевидно. Она конфузилась, краснела, не знала, к кому обратиться, и, верно, не подозревала, что с ней говорил сам Короленко. На замечание Владимира Галактионовича, что рукопись еще не просмотрена, она ответила, что уезжает завтра, после чего Владимир Галактионович пообещал сегодня же просмотреть ее рукопись и немедленно дать знать о результатах.
Вечером. Все-таки не без добрых же друзей живу я на свете.
Сегодня Lusignan принесла мне термометр, лекарство и банку какао, приказав все это употреблять в дело.
Предлагала еще и денег, да я уж не взяла.
Ужасно, в общем, плохо я себя чувствую! И как ослабела. До головокружений поминутных…
5/V. Как-то расспрашивала я Милорадович, не видала ли она кого из бывших академисток. Оказывается, она встретила в этом году Кладо Таню на вечере какого-то литературно-художественного общества, и Таня говорила ей, что не может себе простить того, что все эти годы просидела, уткнувшись в одну математику, и дальше ее ничего видеть и знать не хотела, что теперь она хочет наверстать потерянное время и ознакомиться с другими отраслями жизни, главным образом с искусством. Lusignan давно уже пришла к этому и весь последний год своего пребывания на Курсах терзалась тем, что не имеет достаточно времени для посещения театров, концертов, общества. Главное мучение моего теперешнего положения заключается в том же: курсы – это моя кабала… И еще немало найдется, я думаю, таких из нашей братии, которые, пройдя старательно и с увлечением всю курсовую науку, вдруг спохватятся, что они, в сущности, еще не жили, а между тем лучшее время жизни уже прошло для них.
В самом деле, наука не может быть настоящей жизнью для нас, женщин: она не может наполнить нас, потому что мы недостаточно сильны, чтобы вместить ее. Пока мы учимся и накопляем знания, мы ждем и надеемся, но когда приходит время пустить свои знания в ход или строить из них нечто дальнейшее, – оказывается, что на это-то мы и не способны, и у кого головы мало-мальски на плечах, быстро сознают это. И неизбежно встает вопрос: для чего я губила зря свою молодость, для чего я искусственно прятала себя в клетку, для чего налагала на себя тяжкие цепи аскетизма, если нести их дальше и сделать для себя нечувствительными – я не могу?
Мы еще не доросли до науки (за очень редкими исключениями), поэтому посвящать ей всю свою жизнь по меньшей мере глупо. Мы можем в ней быть только каменщиками; каменщикам их труд не может дать удовлетворения; тасканьем кирпичей по чужой указке не очень-то наполнишь свою жизнь… Так для чего же было губить жизнь из‑за призрака! Скорей нахватать хоть то, что еще не совсем потеряно, чем можно наверстывать прошлое!
Эту фаустовскую историю мне приходилось не раз встречать среди наших ученых курсисток, точно так же, как и другое явление: полнейшее разочарование в себе, в своих силах, следствием чего является бездействие, нерешительность и что-то даже вроде taedium vitae37. Это уж в некотором роде гамлетовщина.
Начинаем мы большей частью с донкихотства, самого возвышенного идеализма и преувеличенной веры в свое призвание. С годами мы переходим в другую крайность: скептицизм, пессимизм, мрачное разочарование. Равнодействующей для одних является встряска, в виде фаустовской жажды жизни, стремления вернуть молодость с ее сумасбродствами, пылкими увлечениями и любовью, для других – полная крышка, гамлетовщина; они превращаются в «лишних людей», и хорошо еще если пристроят себя к жизни тем, что выйдут замуж, но и тут всякие творческие силы их иссякли и они даже семьи создать не в силах, оставаясь полунытиками, полуникчемными женами и матерями.
Я помню один очень яркий тип такого «лишнего человека» – Любочку Лёвшину. Она, впрочем, с него начала, им и кончила.
Лёвшина поступила в один год со мной и тоже на физико-математический факультет. Там она изредка ходила на математические лекции, зато усердно посещала студенческие кружки для самообразования, пробовала читать политическую экономию и «Капитал» в чьем-то переложении, увлекалась понемножку – она все делала понемножку, и сама была такая маленькая, аккуратненькая, ласковая; ела понемножку, преимущественно крошечные пирожки, сдобные булочки, пирожные, вместо обеда в столовой брала одно сладкое; волосы ее были немножко и гладенько приподняты, воротничок и рукавчики обшиты белой крахмальной вышивкой; щеки румяные, покрытые легким пушком, и вся она распространяла нежный аромат духов. Итак, Любочка увлекалась понемножку лекциями Гримма38 и в значительно большей степени идейными, чистыми студентами, «относящимися к женщине как к товарищу и другу»…
Помню, как пришла она ко мне однажды взволнованная и как-то особенно вдохновенная и с жаром начала рассказывать о том, что вот теперь она наконец встретила настоящего человека. «Это такой человек, такая идеальная жена, такое возвышенное и благородное понимание! – говорила Любочка. – А как он к курсисткам относится! Он дает им работу, он приглашает их вместе со студентами к себе для занятий, поит их чаем, и, понимаете, – никакой разницы между ними и студентами, ни малейшего подчеркиванья. Мы для него такие же добрые товарищи, как и студенты. Сегодня я пришла к нему, у него было уже несколько студентов, и он сидел среди них без воротничка и галстуха, и при моем появлении нисколько не изменил ни своего вида, ни положения. “Садитесь с нами, голубчик”, – сказал он мне и так просто слегка дотронулся до руки, указывая свободный стул. Да что и говорить! Удивительно чистый человек, прямо редкий; таких, верно, уж больше и нет; об них только в книге прочесть можно».
И кто ж бы был этим идеальным человеком? Приват-доцент русской истории Строев!!!
Любочка и меня затащила как-то к нему, чтобы показать мне воочию, что это за человек, ну я и убедилась…
Так вот эта самая Любочка через несколько времени начала хандрить, говорила об отсутствии смысла в жизни, смысла в занятиях. Собственно, как можно было видеть, она никогда серьезно и не принималась за занятия, не пробовала да и не умела попробовать трудиться по-настоящему, однако любимой темой всех ее разговоров была негодность женщины к какой бы то ни было деятельности; она, очевидно, начала скучать.
Несколько позже Любочка опять рассказывала мне о знакомстве с одним «идеальным» студентом Савичем, очень умным и талантливым, по ее словам, и наконец в один прекрасный день она куда-то исчезла совсем. Больше я ее не видала ни на курсах, ни у себя, нигде. Как сквозь землю провалилась. Очевидно, она уехала домой, а может быть, и вышла замуж за этого «идеального» студента39. Во всяком случае, она, верно, и тут не сумела себя ни к чему пристроить и так же скоро разочаровалась в своем студенте, как и во всем другом.
А может быть, впрочем, любовь к сдобным булочкам и сладким пирожкам и сделала свое дело, и Любочка сделалась маленькой, аккуратненькой хозяйкой, умеющей печь свои любимые булочки и пирожки, если только муж сумел забрать ее в руки и дать ей то, что ей необходимо и чего она сама не знала, в чем оно заключается…
6/V. Ужасное состояние, когда весь мир сводится к одному огромному, распухшему, красному носу, черт бы его подрал! Только то и делай, что сморкайся и вытирай глаза: я уж и то скоро в них дырку протру. Апчхи!!.. Апчхи!!..
10/V. Вот и состоялась поездка в Белоостров40. Мы провели у Ильи Александровича целый день, с половины двенадцатого утра до 9 вечера. Было нас всего человек сорок студентов и курсисток, оставленных при кафедрах и просто окончивших. Между прочим, был и Ал. Ремизов41, но об нем после.
С утра, когда я встала, небо хмурилось; по нем ходили серые тучи, и ветер поминутно то сгонял их в темные массы, закрывающие солнце (светило дня), то опять разрывал в клочки, разгоняемые потом в разные стороны, давая этим простор солнечным лучам. Но когда мы подъезжали к станции Белоостров, на наше счастье распогодилось, и большая шумная толпа курсисток потянула по мостовой к даче И. А. Человека 4 поехало, остальные, и я между ними, пошли.
Пахло землей и новорожденной зеленью. По сторонам шоссе застыло обычное петербургское болото; между ним кой-где попадались более высокие островки с сухими березовыми рощицами, пока еще серевшими, а не белевшими на просвечивающем между ними небе; у самой дороги отдельно или группами по двое и трое красиво раскинули по синему фону неба свои темные благородно-изящные лапы спокойно-молчаливые сосны.
Начинало припекать и становилось жарко. Большинство сбросило свои пальто, наградив ими обогнавших нас на извозчике компаньонов, и шло налегке. Преобладали легкие белые кофточки и темные юбки. Наученная горьким опытом последних дней, я шла в пальто и чуть дотащилась от жары и не прошедшей еще слабости.
Но вот мы подошли, наконец, к шляпкинской даче.
Она стояла, окруженная высоким забором с калиткой, над которой виднелась дощечка: «И. А. Шляпкин», – а рядом черная рука с перстом, указующим по направлению стрелки. Однако мы не обратили на нее должного внимания и вошли прямо в калитку. Калитка ввела нас в палисадничек и на балкон дома, откуда через гостиную мы прошли в крохотную переднюю и всю ее заполнили различными принадлежностями своего туалета.
Но каким маленьким показался мне теперь этот домик, каким миниатюрным!! Прямо даже не верилось, что это в нем же я была несколько лет тому назад; кажется, и не ребенком была, а вот поди ж ты! Полученная от первого посещения Шляпкина бездна новых впечатлений расширила стены его жилища и качество и количество содержимого в нем и превратила его в нечто грандиозное в моем воображении, точно так же, как и сам «хозяин ласковый»42 вырос тогда до размеров полутитана, получеловека. Что значит пожить на свете, повидать кой-что и поумнеть!
При нашем появлении нас встретили только приехавшие раньше нас курсистки. И. А. не было. До нас доходили из кабинета мужские голоса, и мы сообразили, что он там, но входить туда не решались. Без него же нам подали чай, буттерброды и печенье.
Конечно, И. А. сделал очень остроумно, предоставив нам насытиться на свободе и привести себя в приличный вид ко времени его появления, и мы не замедлили воспользоваться его предусмотрительностью: на чай и буттерброды налегли очень энергично, однако все же в границах приличного (в пределах дозволенного). Тут же стояли апельсины и конфекты (так!): мармелад, шоколадные и тянушки, и мы отдали должное им, хотя они предназначались, кажется, на после-обеда.
Когда мы достаточно насытились и успели оглядеться вокруг себя, чтобы не показать себя больше дикими зверьками или деревенскими мальчуганами, с пальцем во рту уставившимися на диковинки барского дома (это заняло минут 50), – вышел из кабинета и сам хозяин в сопровождении нескольких студентов, с которыми он предложил нам познакомиться. Однако знакомство это почти не состоялось, и мы так и не узнали фамилии ни одного из них, кроме ехавшего с нами в поезде Басенко43.
И. А. был великолепен. Первый раз, когда я была у него с Lusignan, он принимал нас в голубой сатиновой рубахе, подпоясанной каким-то широким турецким шарфом, и в высоких сапогах. Вчера он был в красной с пестрым белым горохом сатиновой блузе ниже колен и длинных брюках44.
Насколько это было красиво, предоставляю судить другим, что же касается меня, то я человек сговорчивый (уступчивый): отчего, в самом деле, не потешить себя человеку безобидным оригинальничаньем, маленькой фантазией! Недаром же прибил он у себя в передней над дверью латинскую надпись, по-нашему звучащую: «У всякого барона свои фантазии». – Хоть в этом побыть бароном!..
И. А. встретил нас очень радушно.
– Здравствуйте, господа, очень рад вас видеть, – приветствовал он нас (немного по-военному), протягивая всем руку. – Вы уж закусили, теперь мы можем, значит, заняться осмотром моих коллекций? Только уж вам придется разделиться на две или три группы, а то мы все не уместимся. И наверх уж я с вами не пойду, попрошу кого-нибудь из бывавших у меня студентов заменить меня; вы понимаете, господа, что мне уж тяжело лазить по лестнице.
Мы, конечно, вполне с этим согласились, и И. А. повел часть из нас в моленную, где находились наиболее интересные из его древностей.
Помещается моленная под лестницей в мезонине и представляет собой маленькую продолговатую комнату в одно окно с узорчатой деревянной решеткой. В ней стоял запах ладана и несомненно присутствовало известное настроение, как и во всем его доме, чего я опять-таки на этот раз недостаточно восприняла; первый же раз, помню, я вынесла от визита к И. А. очень сильное впечатление. Где-то я даже записала его тогда по возвращении домой.
Вещи, на которые И. А. обращал наше особое внимание, были: кресты, между которыми висели два крохотные, сохранившиеся, по предположению, может быть, еще от крещения Руси, другие – XI–XII веков; старообрядческие наперсные кресты поповческие и беспоповческие; символические и аллегорические иконы; раскрашенная деревянная статуя «Христа Страждущего» из Великого Устюга, кажется. Работа, на первый взгляд, довольно топорная, поражает потом силой экспрессии как в лице, так и в самой позе: скорбные глаза, из которых точно текут кровавые слезы – капли крови со лба из-под тернового венца; как бы распухшие и запекшиеся от жгучей жажды губы, сгорбленная, изнеможенная под бременем страдания фигура.
Все это очень хорошо для такого примитива, но как бы оно ни было хорошо и безотносительно для чего, все-таки меня немного поразила просьба И. А. закрыть его поскорее (статуя всегда стоит у него закрытая), объясняемая тем, что «неприятно все-таки, господа, вы же понимаете, сильное и неприятное впечатление». Что тут: религиозное ли чувство, сильная ли впечатлительность или маленькая доля рисовки?
Рукописей Шляпкин не доставал, показав только шкап, в котором они хранятся; зато он с большим трудом и осторожностью вытащил далеко заставленные хрустальные и стеклянные кубки, флягу и чарки с петровским вензелем и орлом его времени, бывавшие, может быть, даже на петровских ассамблеях. Потом мы вынесли с его разрешения в гостиную ларцы с разными остатками одежды старинных тканей, папки с образчиками золотых (владимирских) и серебряных кружев и плетений разных сортов, и все это рассматривали, примеряя на себя, чему подал пример хозяин, одевшись в наряд невесты перед венцом.
В гостиной И. А. указал на некоторые картины, рассказав или их историю, или их значение, после чего мы двинулись в кабинет. Там мы услышали историю письменного стола, за которым писал Белинский в редакции «Телескопа»45, погодинского дивана и некоторых надеждинских коллекций. И. А. достал из стола папки с разными рукописями, автографами и письмами великих людей, и все это свободно ходило по нашим рукам, так что два-три человека брали какую-нибудь папку, шли куда-нибудь в уголок и там рассматривали и прочитывали ее содержимое. В этом отношении И. А. очень порядочен и даже благороден, надо отдать ему справедливость, несмотря на постоянные его шутки вроде того, что «вы думаете, зачем я завел эту книжечку? вот вы все распишетесь в ней, так я и буду знать, с кого спрашивать, если пропадет какая-нибудь ценная вещь или автограф», – или: «пожалуйте, господа, кушать, только предупреждаю: ложек в карман не класть, т. к. нынче у меня серебро платоновское. Уезжая, я отдал ему на хранение, а он сам возьми и уедь недавно в Москву, и все ключи с собой свез; вот Надежда Николаевна и дала мне на сегодня свои ложки, так что уж, пожалуйста, честью прошу, не поставьте меня перед ней в неловкое положение»46. А уж после моего житья столько времени бок о бок с Черняками, после возвышенных разговоров Лидии Семеновны об искусстве и благородстве характеров, уживающихся рядом с самым узким мещанством, плюшкинством (крохоборством) и прямо иной раз свинством в отношении к другим, – И. А. приятно трогал и казался даже образцом благородства. Мы держали себя у него полными хозяевами, разгуливали по всему дому и смотрели, что кому хотелось.