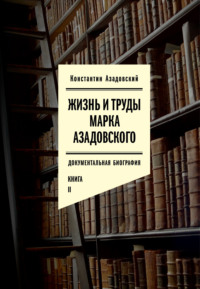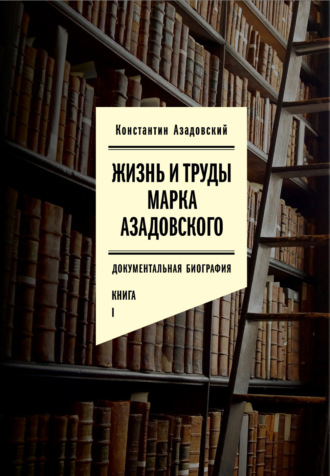
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I
Старинные же девичники, продолжавшиеся по неделям, поездки на кладбище и т. п. совершенно исчезли.
Старые лирические песни также забываются. На вечорках и игранчиках их уже мало поют. Лучше сохранились старые плясовые песни. Это понятно, так как старухи, напившись пьяными, неизменно поют их на всех «гулянках». А от них перенимает и молодежь.
Исчезают также и луговые песни, некоторые из них стали просто игровыми и поются на игранчиках и вечорках, в играх.
Песни колядовые совершенно неизвестны.
Любопытно отметить, что иногда старинные песни переделываются на новый лад и старые «проголосные» поются по образу и подобию частушек.
Кроме собирания песенного материала, занимался я также изучением местного говора. Прежде всего должно указать сильное влияние города. В посещенных мною деревнях это особенно сильно заметно. Изучение говора более дальних деревень представляло бы более интереса. Казаки очень часто посещают город по всевозможным делам, многим приходится отбывать в городе военную службу, казачки живут зимой в городе «в прислугах» и т. д. Как на характерный показатель проникновения городской культуры укажу, что в амурской деревне широко известны и очень популярны (среди молодежи) почти все песни, которые можно услышать на улицах города в качестве «самых модных» («Ах, зачем эта ночь…», «Последний нонешний денечек…», «Пускай могила меня накажет…», «Маруся отравилась, Маруся умерла…» и др.).
Причем перенимают не только слова, но и городскую манеру петь, и городское произношение.
Затем нужно указать на существование в говоре некоторых противоположных черт (например, «жона», «жана», «жэна», «жена»). Может быть, это объясняется тем, что современные амурцы происходят и от забайкальцев-аргунцев, и от забайкальцев-ундинцев и т д.
Академик А. И. Соболевский в «Опыте русской диалектологии»6 замечает, что говор Восточной Сибири один и тот же: в Иркутске, в низовьях Ангары, у Охотского моря, по Шилке и Амуру. Мне кажется, поскольку я могу судить по собранному мной материалу, это утверждение должно ограничить. Так, напр<имер>, ак<адемик> Соболевский указывает на повсеместную мену «в» на «л», «к» на «г». Я ни разу не встретил ни того, ни другого явления, не замечали его и другие лица, с которыми мне приходилось беседовать на эту тему (только «ослобонить»). Мена «ѣ» на «и» в корнях под ударением не встречается. У ак<адемика> Соболевского указано «хлиб», «переихал». Также не отмечено мною «х» вм<есто> «ф» в формах родит<ельного> пад<ежа>. Значительная разница и в словарном материале.
Кратковременность наблюдений не позволяет мне еще подробно характеризовать говор, так как многое в собранном материале мне еще не совсем ясно. <…>
Словарный материал я начал собирать, еще будучи студентом. В настоящее время я располагаю 750–800 карточек <так!> с отдельными словами (из них более пятисот собрано за последнюю поездку).
Слова, служащие названиями различных принадлежностей ремесла и одежды, принадлежностей охоты и т. п., иллюстрируются фотографическими снимками7.
Молодой ученый уделял сибирской диалектологии особое внимание. На рубеже 1916–1917 гг., рекомендуя Русскому географическому обществу издать работу А. В. Пруссак8, проводившей исследования в Иркутской области, он писал в своем кратком отзыве:
До сих пор в области диалектологии Сибири, особенно восточной части ее, сделано крайне мало, почти ничего. Все основывается на случайных заметках путешественников прошлого и предыдущих столетий. Вся же научная литература исчерпывается несколькими (две-три) страничками в труде ак<адемика> А. И. Соболевского, в настоящее время уже устаревшими и неоправдываемыми наблюдениями последних годов…9
Важно отметить, что уже в первой своей экспедиции М. К., безусловно знакомый с практикой собирания русского фольклора в начале ХХ в. (А. Григорьев, А. Марков, Н. Ончуков, братья Соколовы), проявляет известную самостоятельность. Он объединяет, например, чисто фольклористическую задачу (запись текстов) с лингвистической (фиксация особенностей местного говора). Именно такой подход предлагал А. А. Шахматов, работавший как фольклорист-собиратель в Прионежье в 1884 г. Много лет спустя в статье, посвященной своему учителю, М. К. отметит эту особенность его научного метода:
Как фольклорист-собиратель Шахматов занимает особое место. Его можно назвать фольклористом-диалектологом. Конечно, каждый фольклорист, если он работает вполне научно, является в какой-то степени и диалектологом. С другой стороны, многие диалектологи охотнее всего записывали фольклорные тексты, видя в них особо важный материал для изучения говора. Но для тех и других имела значение только интересующая их сторона: фольклорист дорожил особенностями говора как одним из существеннейших элементов фольклорного текста, неразрывно связанного с народной речью; для диалектолога – фольклор один из многих источников изучения народной речи. Для Шахматова же это были две стороны единого явления10.
Прилагая к своему письму списки собранных песен и частушки, М. К. добавляет к ним также «Материалы для словаря» (толковый словарь необычных слов), «Образцы речи амурских казаков» и раздел под названием «Говора́ амурских казаков Михайло-Семеновского станичного округа» (слова с расставленными ударениями)11.
Обращает на себя внимание метод обработки лексического материала, сочетающий в себе лингвистический и этнографический подходы. Неизменно указываются точные данные жителей, от которых сделаны записи (имя, отчество, фамилия, возраст, местожительство и т. д.), отмечаются особенности произношения того или иного имени собственного, как и другие особенности местной речи (в отдельных случаях проставлены ударения)12.
Первая экспедиция М. К., несмотря на ее несомненно богатый научный результат, была как бы «пробой сил». Ясно сознавая, что экспедиция, предпринятая на собственный счет, не может быть полноценной, М. К. поднимает в своем отчете вопрос о том, как продолжить работу на более надежной основе, придать ей официальный характер. Этому посвящена заключительная часть его обращения в Отделение русского языка и словесности (на имя А. А. Шахматова):
Предпринимая свою поездку, я предполагал посетить весь большой Михайло-Семеновский станичный округ (20 стан<иц>) и пробыть в каждой более или менее продолжительное время. Но план этот я не мог привести в исполнение, так как в первой же посещенной мной деревне, пробыв там три дня, я заболел и вынужден был вернуться обратно в город (Хабаровск). И только через три недели, израсходовав так непроизводительно время и деньги, мог я снова выехать, но уже на этот раз не располагая деньгами и вынужденный обязательно вернуться к определенному сроку в город, смог я посетить только пять станиц, оставаясь в каждой не более 2‑х дней. (Должен оговориться, что и время было не совсем удобное, так как еще спешно заканчивались некоторые крестьянские работы.)
На эти поездки израсходовано мною около ста рублей своих личных средств, и в настоящее время средствами для дальнейших работ я не располагаю.
Вследствие чего и имею честь обратиться с просьбой в Отделение Русского языка и Словесности Императорской Академии наук об оказании мне материальной поддержки для продолжения моих занятий по собиранию материалов по народной словесности и диалектологии.
Весь собранный мной материал поступит, конечно, в распоряжение Отделения.
Поездку я предполагаю совершить по следующему маршруту:
Посетить все казачьи станицы, начиная со ст<аницы> Надеждинской13, в которой я уже был, и до ст<аницы> Радде14 (500 в<ерст> от Хабаровска).
По дороге предполагаю остановиться в некоторых казачьих деревнях, напр<имер>, в Чурках, Улановке и др., так как в них живут в качестве торговцев, содержателей почтовых станков <так!> и т. д. некоторые казаки, рекомендованные мне как отличные певцы и знатоки народной поэзии. Расходы на поездку вычисляю я следующим образом: путь от Хабаровска до ст. Радде и обратно (1000 в<ерст>) почтовым зимним трактом по 6 к<опеек> с версты – 60 р<ублей>.
Кроме того, придется делать заезды в сторону от тракта, пользуясь междудворными и вольными лошадьми. Высчитать точно прогоны невозможно, так как плата зависит от соглашения в каждом отдельном случае.
Но так как благодаря этим отклонениям в сторону явится возможность миновать некоторые станки прямого тракта, то я полагаю, что 100 р<ублей> вполне хватит на весь путь. (Основываю эту цифру на сведениях, собранных за последнюю поездку и пополненных в городе.)
Пробыть в пути предполагаю 2½–3 месяца: декабрь, январь и февраль.
По словам казаков, это время – самое удобное для моей цели, так как именно в это время население наиболее свободно и тогда же устраиваются вечорки, игранчики и др<угие> формы гулянок. В феврале преимущественно бывают и свадьбы.
Расход на продовольствие и ночлег, считая приблизительно 1 р<убль> в сутки, также 100 р<ублей>.
Наконец нужно еще иметь в виду необходимые издержки на угощение (без этого очень трудно обойтись), подарки. Иногда придется, б<ыть> м<ожет>, созвать самому и оплатить вечорку.
На эти расходы, я полагаю, будет достаточно рублей 40–50.
Все остальные расходы, связанные с поездкой (фотографические пластинки, специальная одежда для зимних поездок и т. п.), я буду иметь возможность произвести собственными средствами.
Кроме денежной помощи ходатайствую я перед Отделением Рус<ского> яз<ыка> и Сл<овесности> Императорской Академии Наук о снабжении меня фонографом для записи образцов говора и песенных мотивов.
М. Азадовский
г. Хабаровск, Хабаровская ул. 55
1 ноября 1913 г.15
Из письма М. К. следует, что его первая экспедиция протекала в летние месяцы 1913 г., захватывая, возможно, и часть сентября. В Петербург он так и не поехал. В прошении, отправленном 30 апреля 1914 г. заведующему Одногодичными педагогическими курсами, М. К. называет причины, по которым он не смог вернуться к началу занятий на курсах (т. е. осенью 1913 г.): «…Вскоре после подачи прошения16 я заболел, а потом должен был отбывать учебный сбор в г. Хабаровске в качестве ратника I разряда, который и закончил в середине декабря 1913 года»17. О своей поездке по Приамурью М. К., естественно, не упоминает.
Никакими сведениями о военной учебе М. К. «в качестве ратника» мы не располагаем. Думается, этот «учебный сбор» если и состоялся, то обернулся для него простой формальностью, поскольку в октябре он уже занимался составлением подробного послания в Академию наук.
Куда и кому именно было отправлено это послание, не вполне ясно: то ли непосредственно в Академию наук, то ли Л. В. Бианки с просьбой передать лично А. А. Шахматову (под руководством которого занимался Бианки). Тем более что Лев Валентинович еще ранее пытался обратить внимание академика на своего товарища и многообещающего молодого ученого. 29 ноября 1913 г. Бианки писал Шахматову:
Глубокоуважаемый Алексей Александрович, как-то я и мой товарищ по факультету В. А. Сидоров обратились к Вам с просьбою о том, не найдете ли Вы возможным возбудить перед Вторым Отделением Ак<адемии> Н<аук> ходатайство о пособии кандидату нашего Университета18 М. К. Азадовскому на поездку по станицам Амурского края. Теперь я имею возможность передать Вам прошение М. К. Азадовского и некоторые материалы его и, совместно с товарищами В. А. Сидоровым и Л. С. Троицким, очень прошу Вас ознакомиться с этими материалами.
Не могу взять на себя смелости оценивать присланные М<арком> К<онстантиновичем> материалы и вообще судить о своевременности его планов. Разрешу себе только несколько слов о самом М. К. Азадовском на основании моего личного знакомства с ним.
Если вообще имеют ценность наблюдения над литературным и языковым творчеством населения Восточной Сибири, если важно спасти от полного забвения остатки древних элементов в языке и фольклоре сибирских переселенцев, то, по моему искреннему мнению, Ак<адемия> Н<аук> не пожалеет, оказав в этих целях поддержку именно М<арку> К<онстантинович>у. Присланные М<арком> К<онстантинович>ем материалы не дадут, я боюсь, правильного представления даже о подготовке М<арка> К<онстантиновича> к наблюдениям, т<ак> к<ак> эти материалы изложены наспех и вообще при оч<ень> неблагоприятных условиях (отсутствие необходимых справочников и т. д.). Но как бы то ни было, я могу, по моему глубокому убеждению, обратить В<аше> внимание на то, что М<арк> К<онстантинович> – человек редкой преданности делу изучения Сибири и полон энтузиазма к той области знания, в которой он начал работать. Я нисколько не сомневаюсь, что знания и подготовка М<арка> К<онстантиновича> будут неуклонно расти, так как его влечет к поездке с ист<орико>-лит<ературными> и лингв<истическими> целями отнюдь не голое стремление к продвижению, но научный интерес.
Не сомневаюсь также, что М<арк> К<онстантинович> с благодарностью примет все указания, какие Вы нашли бы нужным сделать ему в целях большей продуктивности его наблюдений (сократить, напр<имер>, свой маршрут, обратив внимание на те или иные явления в языке, и т. п.).
Очень извиняюсь, что затрудняю Вас чтением этого пространного письма, но прошу верить, что мною руководит самое искреннее желание помочь Вам приобрести для науки очень полезного работника, воодушевленного прекрасными общественными стремлениями и, мне кажется, обладающего многими данными для того, чтобы оправдать надежды, которые на него были бы возложены.
С искренним уважением и преданностию
Л. В. Бианки19.
Это свое письмо Бианки, по-видимому, отдал, вместе с ходатайством М. К., прямо в руки академика, поскольку уже на другой день, 30 ноября, возглавляемое Шахматовом Отделение русского языка и словесности на своем очередном заседании принимает решение:
…выслать по телеграфу Марку Константиновичу Азадовскому <…> двести пятьдесят рублей на поездку в Сибирь для собирания материалов по народной словесности и диалектологии в Амурском крае, о чем и просить Правление А<кадемии> Н<аук> выпискою из протокола20.
4 декабря отделение официально информирует Азадовского о принятом решении21. А 8 или 9 декабря М. К. откликается телеграммой: «Глубоко благодарен за оказанное доверие выеду по получении денег командировочного листа Азадовский»22.
Переписка с Петербургом продолжалась. Вероятно, в декабре М. К. заканчивает статью «Амурская „частушка“»23, написанную по материалам его летней поездки и содержащую приблизительно 40 текстов. «Все частушки записаны в станицах по ср<еднему> Амуру и приведены с особенностями местного говора», – указано в примечании. При всей свой краткости, газетная статья содержит ряд общих наблюдений и выводов (о природе частушки, ее бытовании в данный исторический момент, соотнесенности «сибирской» и «российской» частушки, вытеснении старой народной песни за счет частушек и др.)24.
Именно эту статью М. К. считал началом своей научной деятельности, своего рода «точкой отсчета». С «Амурской „частушки“» начинается перечень опубликованных работ в его первой библиографии25.
Задержавшись в Хабаровске до осени 1914 г., М. К. продолжает сотрудничество с «Приамурьем», причем некоторые его публикации появляются под псевдонимом или вообще без подписи. Выявить их пыталась в свое время Л. В., внимательно изучившая комплект «Приамурья» и предположившая, в частности, авторство М. К. в отношении статьи «Поэзия Огарева», появившейся – в связи со столетним юбилеем – под псевдонимом Д. Карамазовский26.
Получив из Петербурга необходимые бумаги, удостоверяющие его статус27, М. К. продолжил свою собирательскую работу. «В начале января 1914 года, укутанный в шубу, я отправился частью на лошадях по льду Амура, частью через тайгу. Знакомые у меня были, дорога была известна…» – вспоминал он через несколько лет28. Поездка оказалась на этот раз более продолжительной (она продлится два с половиной месяца). Вооруженный фонографом и фотоаппаратом, М. К. проехал от Хабаровска до Радде, останавливаясь, по его собственным словам, «почти во всех казачьих станицах»29, где жили переселенцы из Забайкалья. Его задача, как и в первую поездку, заключалась в том, чтобы отыскать среди казачьего населения Амурского края «следы эпической поэзии, записать песни исторические, лирические и обрядовые, произвести диалектологические наблюдения и собрать словарный материал»30.
Впоследствии, упоминая в своих лекциях и печатных трудах об Амурских экспедициях 1913 и 1914 гг. (их можно рассматривать как одну экспедицию, протекавшую в два этапа), М. К. приводил интересные подробности о людях, с которыми ему довелось встретиться и которые помогали ему словом и делом. Его «Доклад в Лесном», например, содержит портрет «бабушки Болтанисихи», у которой он записал песню, «великолепную по своему складу» («Как во городе во Астрахани…»), а также другую песню, «столь же древнюю и интересную» (о Стеньке Разине); или, например, характеристику местного богача А. Бочкарева, «человека весьма почетного, уважаемого», который взял молодого исследователя под свое покровительство и помог ему «рекомендациями»31. Особо следует назвать казака Семена Ивановича Раздобреева, бывшего станичного атамана, жителя Биджанского хутора, который тут же понял, как и чем он может помочь молодому исследователю. «Я никогда бы не мог найти таких слов и аргументов (да и не обладал таким остроумием), которые неисчерпимо <так!> лились из уст моего спутника для того, чтобы сделать понятной каждому цель моего приезда и моей работы»32. Благодаря содействию Раздобреева работа М. К. в этом поселении оказалась особенно плодотворной. М. К. уговорил Раздобреева написать воспоминания, и к лету 1914 г. рукопись была готова. Сохранился ее экземпляр с надписью: «На добрую память Марку Константиновичу Азадовскому от С. И. Раздобреева. 1914‑го мая 30-го». На обложке тетради значится (рукою самого автора): «Рукопись Семена Ивановича Раздобреева с 1858 по 1914 год, на 64‑м году»; концовка гласит: «На добрую память тем, кто будет сочувствовать ко мне» (99–11). Рассказывая о Раздобрееве в «Беседах собирателя», М. К. также сообщает (в примечании): «По моей просьбе он написал, м<ежду> прочим, свою автобиографию, которая, надеюсь, скоро будет опубликована»33.
М. К. встретится с Раздобреевым еще раз летом 1917 г. в Хабаровске.
Считая воспоминания Раздобреева ценным источником по истории заселения Приамурья, М. К. приготовил в 1922 г. эту рукопись к печати, написал предисловие34, а кроме того, произвел литературную обработку раздобреевского текста – с максимальным приближением к лексике автора и сохранением, где возможно, его подлинных слов, выражений и т. п. Работа, однако, не была им завершена.
В 1970 г. Л. В. предприняла попытку опубликовать рукопись Раздобреева и обратилась по этому поводу к Н. М. Рогалю, главному редактору хабаровского журнала «Дальний Восток». Сообщив историю возникновения воспоминаний, Л. В. остановилась на их содержании:
Это описание переселения крестьян из Забайкалья в Амурскую область весной 1860 г.: река Амур, плавание на плотах в сопровождении солдат и казаков, река Аргунь, Албазин, Благовещенск, Зея, китайский город Айгун, Хинганские горы, место назначения – станица Поливанова, устройство там на жительство, затем переезд в Новую Забеллову35 и т. д. <…>
Быт крестьян-переселенцев дан ярко и непосредственно. Это и полное бесправие, и тяжкий труд, постоянная нужда, всяческие лишения, борьба со стихиями (наводнения и проч.), произвол и тирания начальства, телесные наказания, розги (до 700 ударов за один раз), судебные дела и разбирательства. С. И. Раздобреев говорит также и о семейных взаимоотношениях, об обучении детей в деревне, о поездках в село Хабаровку и проч.
Что меня особенно поразило в этих записках – это острое классовое чутье. В 1913 г. он пишет о кулаках и богатеях, о бедняках и неимущих, о средних «справных» крестьянах. Какой-то инстинктивный, бессознательный, стихийный классовый подход, вскрывающий «правду» и «зло» в деревне.
Теперь о форме, в какой изложена эта рукопись. Нечего и говорить – форма просто ужасна и совершенно нечитабельна. Написано чернилом <так!>, но корявым неразборчивым почерком. Орфография и синтаксис отсутствуют полностью, слова сливаются одно с другим, деления на фразы и предложения нет. Приходится не читать, а разбирать, соображать, думать и догадываться, что хотел сказать автор.
М. К. проделал эту работу: имеется машинописный экземпляр рукописи, представляющий собой литературную обработку текста Раздобреева. Я сверяла этот текст с рукописью – сделано очень хорошо, с максимальным приближением к лексике Раздобреева, с сохранением в ряде случаев (где возможно) его подлинных слов, выражений и т. д.
Но есть еще третий экземпляр, писанный профессиональным писарским почерком, также имеющий поправки, вставки и целые абзацы на полях М. К. Текст его несколько отличается от машинописного экземпляра и от тетрадки самого Раздобреева. Таким образом, налицо три редакции одного текста.
Если предавать все это тиснению, то необходимо выработать единый сводный текст, обобщенный на основании этих трех редакций. Но самая трудная часть работы – довести литературную обработку писаний Раздобреева до конца, т<ак> к<ак> у М. К. это не закончено. Об этом думаю с содроганием.
Затем надо сделать примечания. Обязательно! Там много областных слов, много архаизмов, во многом еще самой надо разобраться.
Надо написать маленькое предисловие. Рассказать об истории этой рукописи, взяв за основу настоящее письмо. К сожалению, я ничего не могу вспомнить со слов М. К. Не помню, чтобы он мне рассказывал о Раздобрееве. Я нашла эту рукопись, разбирая архив уже после его смерти36.
Ответа на это письмо не последовало. «Воспоминания Амурского казака» до настоящего времени не опубликованы и хранятся в архиве М. К.
О результатах Амурских экспедиций 1913 и 1914 гг. позволяет судить краткий, но весьма содержательный отчет, в котором исследователь не только описывает свою поездку, но и формулирует ряд научных положений:
Мне удалось записать более 1000 различных песен, среди которых первое место по количеству занимают лирические («проголосные», «плясовые» и «игровые»), затем следуют свадебные, исторические, разбойничьи, «военные», рекрутские и особенно популярные среди сибиряков «тюрёмные»). Записал я также около 1000 частушек, несколько десятков похоронных причитаний и около 50 заговоров.
Былин же удалось записать только две целиком и несколько былинных отрывков37.
Ученый приходит к выводу, что «эпическая традиция была весьма слаба уже в Забайкалье и совсем заглохла на Амуре». Что же касается лирической песни, то и эта традиция все более затухает и «над всем царит „частушка“ („прибаутка“, „припевка“), и любопытно, что даже иногда старинные песни переделываются на новый лад и поются по образу и подобию частушек»38.
Как и во время первой поездки летом 1913 г., молодой этнограф, ученик А. А. Шахматова, внимательно вслушивался в местные говоры, отмечая особенности речи амурских жителей. В его официальном отчете упоминается о «специальном очерке», посвященном языку амурских казаков-переселенцев. Очерк был задуман и предполагался к печати, однако не осуществился39.
В добавление к печатному отчету М. К., обращаясь непосредственно к А. А. Шахматову, сообщал:
1. …собранные мною материалы по народной словесности и диалектологии я предполагаю использовать следующим образом:
2. Составить диалект<ологический> очерк говора старожильческого казачьего населения Амурск<ой> области,
Составить словарь говора, который предполагаю сравнить с академич<еским> словарем и словарями северных губерний,
3. Приготовить к печати записанные мной песенные тексты, предпослав им очерк современного состояния песенной и обрядной традиции в казачьих селах Амурск<ой> области. Записанные мною варианты будут сличены с аналогичными сибирскими записями Богороза, Костюриной, Макаренко и др., а также и с великорусскими записями40, и, наконец,
в 4‑х, если позволит количество и качество материала, попытаюсь проследить развитие песенного творчества в Сибири, проследить как бы историю песенного пути, выяснить вопрос о существовании и устойчивости историко-эпической традиции в Сибири и т<ому> п<одобный> ряд связанных с этим вопросов41.
Позднее в «Беседах собирателя» М. К. упоминал про записанный им на Амуре в 1914 г. «интереснейший обряд празднования масленицы. Это обрядовое празднование резко выделялось среди других аналогичных обрядов своим явно кощунственным характером. Оно сопровождается действиями и песнями пародийного значения: пародии на отдельные моменты церковной службы и литургические песнопения»42.
К сожалению, судьба этой записи, как и большинства материалов, собранных во время обеих Амурских экспедиций, оказалась печальной; реализовать из намеченного удалось лишь малую часть, отразившуюся в статье «Амурская частушка» и двух небольших работах43. Подавляющее большинство записей погибло. Уезжая в мае 1918 г. из Петрограда в Томск, М. К. поместил их на хранение в сейф Государственного банка, однако вскоре все российские банки были национализированы, и, несмотря на предпринятые позднее усилия, ему так и не удалось отыскать столь ценные для него бумаги.