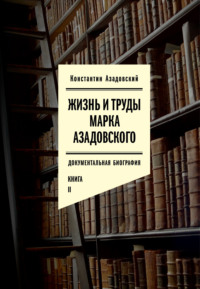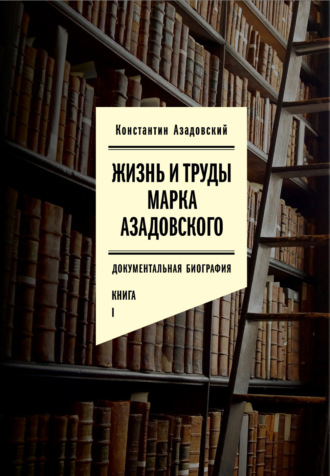
Полная версия
Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I
Менее значительная часть материалов экспедиции 1913 г. оставалась долгое время в архиве ученого. В конце 1938 г. он передал в Фольклорный архив при Фольклорной комиссии Института этнографии44 сохранившиеся у него отдельные валики с записями экспедиции 1913 г. («заговоры, песни обрядовые и не обрядовые, частушки» (8 единиц хранения)45; позднее они поступили в Фонограммархив Пушкинского Дома. «Записи на фонограф, – сообщает С. И. Красноштанов, специально изучавший эти материалы, – сделаны в хуторах Бабстовском, Биджан, Венцелево, Кукелево, станице Екатерино-Никольской. В графе „Содержание записи“ пять раз названо „песня“, далее – „текст шуточной песни“, „Песь <так!> о переселении на Амур“, два раза – „Песня свадебная“, один – „Прибаутки свадебные“, четыре раза – „Рассказ“, затем – „Рассказ об охоте“, „Рассказ о первых днях жизни на Амуре“. В конце стоят – „Причеть“ и „Былина“. Текстов фонограмм нет. Валики законсервированы, и в ближайшее время нет возможности их прослушать»46.
Более счастливой оказалась судьба диалектологического материала. Картотека, начатая М. К. в 1913–1914 гг., в дальнейшем эпизодически пополнялась. Долгое время она оставалась в его личном архиве, уцелела и в блокаду, а в 1951 г. ученый передал ее в ленинградский Институт языкознания Академии наук (ныне – Институт лингвистических исследований РАН); к тому времени картотека составляла 2200 карточек47. Современная исследовательница, отыскивая ее следы, установила, что, «согласно описи, около 2000 карточек с диалектной лексикой, собранной на Амуре М. К. Азадовским, влиты в картотеку „Словаря русских народных говоров“, но они „растворились“ в огромной картотеке, оказавшись на своем алфавитном месте»48. Действительно, в первом выпуске «Словаря» в разделе «Источники» указано: «Азадовский М. К. Материалы для словаря говора амурских казаков. 1913–1914. Около 2000 карточек»49.
Оглядываясь назад, можно утверждать, что работа М. К. по собирательству устной культуры амурских казаков была воистину пионерской. Более поздние попытки местных краеведов повторить маршрут Азадовского и запечатлеть сохранившиеся песни или обряды русского населения Приамурья не могут – даже отдаленно – сравниться с результатами его экспедиций в 1913–1914 гг. Не удивительно: социальная среда, с которой молодой этнограф соприкоснулся в амурских деревнях накануне Первой мировой войны, оказалась в последующие годы размытой и со временем совершенно исчезла или неузнаваемо изменила свой первозданный облик.
Подлинная оценка Амурской экспедиции и того огромного труда, на который ушло в общей сложности несколько лет (сбор материала и последующая его обработка), состоялась лишь спустя десятилетия после смерти ученого. Значение собирательской работы М. К. отметила, например, Г. Г. Ермак в своем обстоятельном историко-этнографическом обзоре50. А в частном письме исследовательница подытоживает: «Материалы М. К. Азадовского, собранные в экспедициях по Амуру, уникальны! Они бесценны для исследователей культуры, фольклорного наследия казачества как локальной группы восточнославянского населения Дальнего Востока России»51.
Другая дальневосточная исследовательница, Л. Е. Фетисова, изучавшая материалы Амурской экспедиции М. К., отложившиеся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, делает вывод о том, что «именно этот ученый положил начало серьезным исследованиям русского фольклора южной части российского Дальнего Востока»52.
Две Амурские экспедиции, предпринятые М. К., знаменуют его вступление в русскую науку и успешное начало пути, оказавшегося, однако, иным, чем виделось, вероятно, ему самому в те весенние месяцы 1914 г., когда, вдохновляясь своей благородной научной задачей, он с энтузиазмом передвигался на лошадях по Амурскому краю – от одной казачьей станицы к другой.
Глава VI. «Ближайший друг»
Приезжая в Хабаровск к семье, Марк жил в доме, принадлежащем Вере Николаевне, по адресу Хабаровская ул. (ныне Дзержинского), 55. Круг его общения был достаточно широк. Разглядывая старые хабаровские фотографии той поры, сохранившиеся в архиве М. К., и читая надписи на их обороте, мы видим немало имен и лиц, идентифицировать которые не удается.
Где и при каких обстоятельствах состоялась первая встреча Владимира Клавдиевича с Азадовским? Зимой 1910/11 г. Арсеньев находился в Петербурге и неоднократно выступал в Русском географическом обществе; среди его слушателей мог оказаться и М. К. Кроме того, в залах Русского музея была тогда развернута Общероссийская этнографическая выставка, на которой демонстрировались коллекции Арсеньева и которую посетил Николай II, вступивший в разговор с Арсеньевым (об этой встрече он впоследствии рассказывал М. К.1). Весной 1911 г. Арсеньев вернулся в Хабаровск. 31 мая 1911 г. (на другой день после лекции М. К. о Белинском в хабаровском Народном доме) Арсеньев выступал в Общественном собрании с докладом «Желтые в Уссурийском крае»; в заседании принял участие и Н. Л. Гондатти2. А 9 июня он выступил (там же) с сообщением «Орочи». В извещении о предстоящей лекции отмечалось, что «имя лектора хорошо известно нашей интеллигентной публике»3.
Впрочем, сам М. К. утверждал, что «знакомство состоялось лишь в 1913 г.»4. Видимо, эту дату и следует признать достоверной. С уверенностью можно утверждать, что первые встречи М. К. с Арсеньевым происходили в помещении Гродековского музея (Арсеньев был с 1910 г. его директором), где устраивались разного рода собрания, заседания, доклады и т. д. Впрочем, их знакомство быстро переросло в дружественные и даже семейственные отношения. Они и жили недалеко друг от друга – на одной улице: Азадовские в доме 55, Арсеньевы – в доме 133. М. К. познакомился с Анной Константиновной (урожд. Кадашевич; 1879–1963), первой женой Арсеньева (супруги развелись в 1919 г.), Арсеньев же – с В. Н. Азадовской. «Я очень был обрадован Вашим письмом, – писал Арсеньев 15 января 1916 г. М. К. (из Хабаровска в Петербург). – Раза два видел Веру Николаевну, она передавала мне Ваши поклоны. Таким-то образом я имел сведения, где Вы и что с Вами»5.
У Азадовских и Арсеньевых были в Хабаровске общие знакомые, – так, например, Арсеньев часто бывал в семье Косовановых, о чем Александр Петрович рассказывал позднее М. М. Богдановой, с которой был дружен в послевоенные годы6.
Тесное общение Азадовского и Арсеньева приходится на вторую половину 1913 г. (начиная с мая-июня) и бо́льшую часть 1914 г. – до отъезда М. К. из Хабаровска в Петроград. Именно в эти месяцы вокруг Арсеньева формируется небольшой кружок единомышленников, собиравшийся еженедельно по средам. Помимо М. К. и Арсеньева к нему принадлежали гидролог-географ К. А. Гомоюнов (1889–1955), в то время преподаватель истории и географии Хабаровского кадетского корпуса; этнограф И. А. Лопатин (1888–1970; Лондон), выпускник Казанского университета (1912), преподаватель естествознания и географии в Хабаровском реальном училище7; чиновник А. Н. Свирин (1886–1976), в те годы сотрудник канцелярии генерал-губернатора (позднее – известный искусствовед, исследователь древнерусского зодчества), и, видимо, химик И. Н. Сафонов8. Писатель Г. Г. Пермяков, опираясь на воспоминания первой жены Арсеньева и его родственников, называет и других знакомых Арсеньева, якобы принадлежавших к его этнографическому кружку: ботаник Н. А. Десулави, биолог В. А. Котов, охотовед И. А. Дзюль, топограф А. Ф. Ахмаметьев, краевед Н. А. Михельсон и еще один «неизменный участник»: «умный и неразговорчивый офицер, прозванный „Великим Немым“»9. (Пермяков именует их «средовцами» или «занятовцами»10.)
Возможно, кто-то из этих лиц действительно посещал заседания кружка. Тем не менее общее число «средовцев», приведенное Г. Пермяковым (одиннадцать человек), представляется преувеличенным. В одном из писем к Л. Я. Штернбергу начала 1914 г. сам Арсеньев называл другую цифру: «Спешу Вас уведомить, что я образовал здесь кружок любителей этнографии (нас шесть человек, среди которых есть М. К. Азадовский). Мы читаем и ведем собеседования, прошли весь курс Харузина и Шурца»11.
Г. Г. Пермяков сообщает, что «среды» Арсеньева начались в 1913 г. и закончились в 1916 г., то есть продолжались как минимум три сезона (первая «среда» была осенью, последняя – в мае). Занятия проходили на квартире Арсеньева на Хабаровской улице и позднее в Портовом переулке (а не в Гродековском музее)12.
Не ограничиваясь докладами и дискуссиями на общенаучные и профессиональные темы, участники кружка встречались и для дружеского общения. Вот как выглядели эти встречи в реконструкции Г. Г. Пермякова, источником для которой послужили воспоминания А. К. Арсеньевой:
«Занятовцы» собирались точно к семи часам. Владимир Клавдиевич не терпел задержек и за минуту опоздания делал замечание. Среда начиналась в гостиной с краеведческого сообщения очередного докладчика. Далее гости рассказывали о новом в науке или предлагали тему для обсуждения и спора. Показывались новые фотографии, карты, книги и рисунки. Это были краеведческие среды с непременной дальневосточной темой. Каждое выступление тут же анализировалось и нередко критиковалось. Самым горячим и неутомимым докладчиком, спорщиком и критиком был Арсеньев. После пяти часов научного шума, как говорила о занятиях Анна Константиновна, ровно в полночь хозяин бил в гонг, и затем следовал ужин до трех и четырех часов ночи. О науке теперь не было и речи. Краеведы меняли амплуа и пели хором, послушные дирижеру Арсеньеву. Иногда, по просьбе собравшихся, Владимир Клавдиевич пел под гитару13.
В письме к Л. В. от 8 ноября 1959 г. Г. Г. Пермяков добавляет еще ряд деталей:
Анна Константиновна Арсеньева, жена Владимира Клавдиевича, много рассказывала мне о Вашем покойном супруге Марке Константиновиче. Рассказывала, как он бывал у них в Хабаровске в 1913 году на зимних вечерах, как любил пирожные, как выглядел, как хорошо говорил, как одевался (94–47; 1).
Эти живые штрихи отчасти перекликаются с другими дошедшими до нас свидетельствами. «Раз в неделю они собирались друг у друга, – писал, например, Ф. Ф. Аристов, один из биографов Арсеньева, опираясь на воспоминания последнего (ныне утраченные), – перечитывали новейшие журнальные статьи и вели дружеские беседы, которые иногда затягивались до рассвета»14. Владимир Клавдиевич любил рассказывать о своих путешествиях по уссурийской тайге и, в частности, о своем знакомстве с Дерсу Узала, читал гостям первые главы будущей книги. Именно в этой дружеской атмосфере и сложился Арсеньев-писатель. В книге Пермякова читаем:
«Шумная десятка» бурно приветствовала введение в книгу Дерсу Узала. Более других это понравилось Лопатину, автору знаменитых «Гольдов»15.
Арсеньев показал свою работу многим знатокам Дальнего Востока, спрашивая их: «Что неверно? Что непонятно? Что добавить?»
Бывшего «средовца» М. К. Азадовского, сказано далее, Владимир Клавдиевич выделял особо и всегда советовался с ним16.
Воспоминания самого М. К. уточняют эту картину:
Я буквально почти всю эту будущую книгу прослушал сначала в замечательно увлекательных рассказах В<ладимира> К<лавдиеви>ча. Я слышал отдельные рассказы у него в кабинете, за чайным столом у меня, в палатке на раскопках и т. д. и т. д. Мне кажется, что в рассказывании они были еще более замечательны; во всяком случае, многих характерных и ярких деталей я потом не нашел в печатном тексте17.
Сохранилась фотография членов хабаровского кружка, на которой изображены, помимо Арсеньева и М. К., К. А. Гомоюнов, А. Н. Спирин и И. А. Лопатин с женой (см. илл. 17).
В монографии, посвященной Арсеньеву, А. И. Тарасова сообщает, что кружок просуществовал один год, а затем «влился во вновь созданное по инициативе Арсеньева Отделение археологии, истории и этнографии при Приамурском отделе РГО»18. Отделение возникло в конце 1913 г.; председателем его был В. К. Арсеньев, секретарем – А. Н. Свирин. На одном из заседаний М. К. выступил с сообщением «Археологические древности по р. Амуру (От Хабаровска до Радде)»19 и рассказал о своих «путевых впечатлениях», связанных с находками в бассейне Амура. В этом выступлении («единственный в моей жизни доклад на археологическую тему», – вспоминал М. К.20) сказалось «прямое влияние» Арсеньева21. Видимо, тогда же (т. е. в конце 1913 – начале 1914 г.) по инициативе Арсеньева М. К. избирается действительным членом Приамурского отдела Русского географического общества22.
О дальнейших связях М. К. с участниками кружка сведений почти не имеется, что, впрочем, не вызывает удивления: осенью 1914 г. М. К. надолго покидает Хабаровск. Правда, в его поздних письмах к Арсеньеву не раз упоминается И. А. Лопатин, перебравшийся в 1920 г. во Владивосток, где преподавал (в должности приват-доцента) курс этнографии в местном университете; там же был издан его капитальный труд «Гольды». В письме из Читы от 7 апреля 1922 г. М. К. просит Арсеньева передать Лопатину привет23. А из письма от 4 августа 1926 г. выясняется, что М. К. способствовал первой научной публикации Лопатина24. Обращаясь к Арсеньеву с просьбой прислать ему книгу «Гольды», М. К. пишет: «Рассчитывать на любезность автора мне, увы, не приходится. (Забыл он, как когда-то я устраивал ему печатание „Сказок“ в „Живой Старине“)»25.
Лопатин к тому времени уже покинул Владивосток, где преподавал с 1920 по 1925 г., и перебрался в Харбин (оттуда – в США). Что именно осложнило отношения М. К. с прежним товарищем по хабаровскому кружку, неясно.
М. К. знал также И. А. Дзюля, начальника станции Корфовская, спутника Владимира Клавдиевича в экспедиции 1908 г. Работая над книгой об Арсеньеве, М. К. 6 июня 1952 г. спрашивал М. К. Крельштейн:
…помнишь ли ты <…> товарища и друга Ринальда Лукича26 – начальника станции Корфовская, Дзюля? Как его звали, Иосиф Александрович или Иосиф Антонович? И какова его судьба? Когда он умер? (Хотя бы приблизительно.)27
Я с ним был хорошо знаком, и мне помнится, что его звали Иосиф Антонович. Но вот недавно в одном журнале я встретил указание, что его звали Иосиф Александрович. Мне он нужен, потому что он был спутником Арсеньева в экспедиции 1908 года. Арсеньев о нем неоднократно упоминает; на Корфовской Арсеньев подолгу живал28 – в частности, там он и писал свои первые книги. Жил же Дзюль постоянно на Корфовской, п<отому> что там была охота на тигров. К стыду своему, я до недавнего времени не знал, что Дзюль был и писателем – в журнале «Наша охота» он напечатал замечательно интересный очерк о совместном путешествии с Арсеньевым29 (88–16; 4–4 об.).
В письме к библиографу, литературоведу и деятелю отечественной культуры Е. Д. Петряеву (1913–1987) от 12 августа 1951 г. М. К. вспоминал, что на одном из заседаний Приамурского отдела Географического общества Арсеньев познакомил его с врачом Н. В. Кириловым (1860–1921), этнографом, публицистом, исследователем Забайкалья30.
В середине 1914 г. в Хабаровске был издан очерк Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае»31. Один из первых экземпляров автор подарил своему младшему товарищу с надписью: «Марку Константиновичу Азадовскому от глубокоуважающего его автора В. Арсеньев»32. Указаны дата и место дарения: «8/VIII 1914 г. Хабаровск». Азадовский откликнулся на это издание небольшой рецензией, написанной, по всей видимости, осенью 1914 г. – вскоре после его возвращения в Петроград. Рецензия появилась без подписи в ежемесячном журнале «Русская старина», хорошо известном в дореволюционной России, в разделе «Библиографический листок»33.
Что касается книги Арсеньева «Лесные люди удехейцы» (Владивосток, 1926) с дарственной надписью Азадовскому, то после смерти ученого она перешла к Б. Н. Путилову. Местонахождение других книг с автографами писателя-путешественника, подаренных им некогда М. К., неизвестно.
Находясь в 1915–1917 гг. в Хабаровске, Арсеньев поддерживал связь с семьей М. К. В цитированном выше письме Л. Я. Штернберга от 31 марта 1914 г. упоминается Азадовская, у которой осталась «инструкция» для этнографической работы с орочами. Речь идет предположительно о Лидии Константиновне, которая находилась тогда в Петербурге и по просьбе брата заходила к Л. Я. Штернбергу, передавшему ей некую «таблицу». После отъезда М. К. из Хабаровска Арсеньев навещал (и, видимо, неоднократно) мать Азадовского. «…С согласия Веры Николаевны я познакомился с Вашей библиотекой», – писал ему Арсеньев 22 марта 1915 г.34 А в октябре 1916 г. Арсеньев читал лекцию «Климат Приамурского края» в Алексеевской женской гимназии Хабаровска35. Лекция состоялась по инициативе родительского комитета, членом которого была в то время В. Н. Азадовская (а в шестом классе той же гимназии училась младшая сестра Марка – Магдалина36).
Свидетельством многолетних дружеских отношений Азадовского и Арсеньева служит их переписка, начавшаяся в 1915 г. и длившаяся до последних дней жизни Владимира Клавдиевича. Сохранилось восемь писем Арсеньева и четыре письма Азадовского; в действительности их было больше. В письме к Н. Е. Кабанову (октябрь 1948 г.) М. К. упоминает о погибшем у него во время ленинградской блокады «замечательном» письме Арсеньева 1915 или 1916 г., в котором тот описывает свое «невыносимое» положение в Географическом обществе и разрыв с Гондатти37. Кроме того, Арсеньев и Азадовский регулярно обменивались своими печатными трудами. В библиотеке М. К. находилось около десяти прижизненных изданий Арсеньева (большинство из них – с надписью автора); первые по времени – хабаровские издания 1914 г.: «Вымирание инородцев Амурского края» и упомянутый выше очерк «Китайцы в Уссурийском крае»38.
Арсеньев был хорошо знаком с результатами Амурской экспедиции Азадовского и его публикациями в «Приамурье». Нет сомнений, что, встречаясь в Хабаровске в 1913–1914 гг., они живо обсуждали этнографические, лингвистические и иные аспекты этой работы, целиком занимавшей тогда М. К. А после его отъезда в Петроград Арсеньев пытался помочь с публикацией собранных материалов, намереваясь отвести для них отдельный выпуск «Записок Приамурского отдела Русского географического общества», и настойчиво предлагал свое содействие. 15 января 1916 г. он писал Азадовскому:
Ваши работы об изучении народной словесности и диалектологических особенностей в Амурском крае оригинальны и единственны. Я не знаю, кто бы еще когда-либо работал в этой области. <…> думаю, что мне удастся провести Вашу интересную работу в печать, если она не будет превышать 300 страниц. Иначе ее придется разделить на два выпуска. <…> Погодите, я поговорю в Совете и результаты переговоров Вам напишу или протелеграфирую. Мне кажется, что работа Ваша пройдет! Во всяком случае, я постараюсь ее провести. Я напишу по этому особый доклад – телеграфируйте мне только данные: число страниц, будут ли фотографии, карты и т. д. <…> Все, что Вы пишете, я исполню и в Совете докажу о необходимости печатать Вашу работу, ибо она, как я понимаю, глубоко научно интересна. <…> О результатах переговоров буду телеграфировать. Я мог бы на себя взять корректуру Вашей работы при условии, если она будет напечатана на машинке и тщательно Вами самим прокорректирована. Соглашайтесь, Марк Константинович, – это единственный, по моему мнению, выход! Вот Вам уравнение с одним неизвестным, а Вы его обдумайте и сообщите Ваше окончательное решение…39
Мы не знаем, какое именно решение принял М. К., прочитав это письмо. Увлеченный в Петербурге иными планами и обогащенный после Ленской экспедиции 1915 г. новыми фольклорными материалами, он явно медлил с обработкой «амурской» части своего исследования. К тому же условия военного времени не слишком способствовали научно-издательским возможностям Русского географического общества, тем более на Дальнем Востоке. Неизвестен и «доклад» Арсеньева, посвященный этой теме; возможно, он и не был подготовлен. А революционная ситуация в начале 1917 г. и последующие события сделали арсеньевский замысел и вовсе неисполнимым.
События 1917 г. и Гражданской войны надолго разъединили друзей. Общение возобновляется лишь в читинский период М. К. Весной 1922 г. он посылает Арсеньеву свои работы, а в ноябре получает от него книгу «По Уссурийскому краю» (Владивосток, 1921) с надписью: «Дорогому Марку Константиновичу Азадовскому от искренно расположенного к нему автора. В. Арсеньев»; дата надписи – 29 октября 1922 г.40 Сопровождался ли этот доставленный из Владивостока подарок письмом или хотя бы устным приветствием, неизвестно. В письме к Л. Я. Штернбергу от 5 декабря 1922 г. М. К. между прочим упоминает: «Была недавно весточка и от Арсеньева»41.
Теплое, дружеское отношение к М. К. сквозит почти во всех письмах Арсеньева. «Я Ваш сторонник и доброжелатель», – пишет он, например, в цитированном письме от 15 января 1916 г.42 «Я часто Вас вспоминаю», – признается Арсеньев в другом письме (21 ноября 1926 г.)43. «Я давненько Вас не видел, – сказано в письме от 12 октября 1924 г. – Друзей становится все меньше и меньше, а сходиться с новыми людьми все труднее и труднее» (57–53; 7 об.). И наконец, в письме от 14 июня 1928 г.: «Я соскучился о Вас, давно не видал, и хотелось бы поговорить»44.
В середине 1923 г., составляя для первого выпуска журнала «Сибирская живая старина» «Библиографические заметки» (см. главу XIV), М. К. счел нужным отметить последние книги Арсеньева, посвященные его путешествиям по Уссурийскому краю (Владивосток, 1921 и 1923): «Обе книги, – сказано в аннотации, – представляют собой ярко написанные научно-популярные очерки, составленные на основании дневников, которые автор вел во время своих путешествий»45.
Из переписки Азадовского и Арсеньева, опубликованной к настоящему времени почти полностью, можно составить ясное представление о круге их общих знакомых, о близких обоим ученых-этнографах. Так, 22 марта 1915 г. Арсеньев просит М. К. передать привет А. А. Макаренко, С. И. Руденко и Л. Я. Штернбергу46. А в письме к Арсеньеву, написанном после долгого перерыва, вызванного революцией и Гражданской войной, М. К. упоминает Д. Н. Анучина, А. А. Макаренко, Ф. В. Волкова, Н. М. Могилянского, В. В. Радлова, А. Н. Самойловича, С. П. Швецова и других и просит передать привет И. П. Толмачеву и И. А. Лопатину47.
В конце 1920‑х гг. с Арсеньевым встречалась в Хабаровске Г. К. Кислинская (урожд. Брун; 1906 – 1990‑е), кузина Л. В. Она вспоминала:
Живя на Дальнем Востоке в Хабаровске, я работала в Крайплане, где в 1920<-х> гг. мне довелось познакомиться с удивительным человеком – В. К. Арсеньевым. Он часто приезжал из Владивостока, принимая активное участие в составлении плана первой пятилетки по Дальнему Востоку. Иногда, прерывая работу, он рассказывал о своих былых экспедициях. Рассказчик он был необыкновенный. Вспоминая о прошлом Хабаровского края, он часто упоминал о молодом талантливом ученом М. К. Азадовском, с которым еще до революции был знаком и тесно сотрудничал48.
Когда состоялась последняя встреча Арсеньева с М. К.? Возможно, в сентябре 1925 г. в Москве – в дни празднования 200-летия Академии наук.
Арсеньев был делегирован на юбилейное торжество от Дальревкома (точнее, от дальневосточных краеведческих организаций), Азадовский – от Иркутского университета и Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Правда, Арсеньев присутствовал лишь на московской части торжеств (13–15 сентября 1925 г.), М. К. же находился вместе с женой в Ленинграде; ездил ли он на эти дни в Москву, неизвестно.
Мечтавший всю жизнь написать об Арсеньеве, М. К. смог обратиться к этому замыслу лишь в конце своей жизни. Этому способствовало заметное оживление интереса к Арсеньеву, наступившее после войны и вызвавшее к жизни ряд изданий, прежде всего – шеститомное издание его сочинений49. Так, в 1947 г. дальневосточный прозаик и литературный критик Н. М. Рогаль (1909–1977) выпускает в Хабаровске критико-биографический очерк об Арсеньеве, а позднее – два тома его сочинений (Хабаровск, 1948, 1949). Тогда же выходит книга Н. Е. Кабанова «Владимир Клавдиевич Арсеньев. Путешественник и натуралист. 1872–1930» (М., 1947). Ознакомившись с ней, М. К. пожелал связаться с незнакомым автором и сообщить ему свои замечания.
В качестве посредника выступил М. А. Сергеев (1888–1965), ученый-сибиревед, исследователь Дальнего Востока. М. К. знал его еще в 1930‑е гг., но в послевоенные годы (и особенно после событий 1949 г.) их общение становится более тесным. Узнав об интересе, проявленном М. К. к автору очерка об Арсеньеве, Сергеев, знакомый Кабанова, написал во Владивосток. Кабанов ответил:
…в одном из Ваших писем Вы писали о М. К. Азадовском. Я лично его знаю по Чите, когда он там начинал свою педагогическую деятельность в Институте Народного Образования (я тогда начинал свою студенческую жизнь), но не был с ним лично знаком. И вот в связи с разработкой материалов об Арсеньеве и Вашим указанием, что М. К. Азадовский был знаком с ним и имеет какие-то замечания по моей книжке, я хочу просить Вас при случае сделать следующее:
Попросить М. К. Азадовского написать мне письмо с указанием всех недочетов, погрешностей и всего остального, что есть в моей книжке.